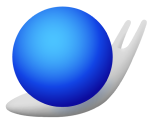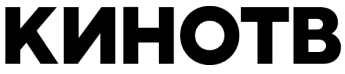Всё чаще в разговорах о российском кино можно услышать слово «травма». Подводя итоги года, замечаешь, что рефлексия авторов (как снимающих, так и пишущих) о душевных ранах выросла в тенденцию. Как современные российские фильмы говорят о психотравмах и почему мы нуждаемся в этом сейчас — размышляет Олеся Новикова.
Как бы ни боролись с популяризацией профессионального жаргона психологи, понятие травмы стало универсальным обозначением любых эмоциональных потрясений. В век психотерапии, прослывшей религией миллениалов, тренд на осознанность и проработку прошлого не мог не захлестнуть российских кинематографистов, чьи юность и взросление оказались на гребне нестабильных 1990-х. Пока одни авторы берутся за переосмысление травмировавшей их эпохи и ненароком проваливаются в ностальгию, другие отделяют категорию травмы от коллективного опыта и создают кино не об обществе, но о человеке. Последние и формируют новый язык разговоров о важном, где травмированы все, но боль у каждого своя.
Один только фестиваль «Маяк» в этом году запомнился двумя такими драмами. В «Вечной зиме» Николая Ларионова драматургический конфликт строится на разных стратегиях проживания невыносимой утраты: отец погибшего подростка Дениса хочет найти и наказать виновных, через насилие излить невыразимое; мать замыкается в себе, бродит по кругу в попытках понять, кем был и кем мог стать убитый сын; друг мальчика, что стал свидетелем трагедии, несёт свой крест. Горе одно, но каждый проживает его сам, как может, — нет верного-неверного, нет назиданий автора, и жаль по-человечески всех. «Кто виноват и что делать?» — вопрос без ответа, но в деликатном фильме Ларионова о необъятном горе важно одно: чтобы пережить боль, нужно встать в самый её центр.

Избегание и запечатывание эмоций — первые симптомы присутствия травмы. С них начинается знакомство с героиней другого фильма — «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой. Айко — успешная московская гримёрша, чьё заколоченное психикой прошлое вылезает наружу после известия о смерти отца. Она помнит его домашним тираном, но, вернувшись спустя десять лет в родную деревню на похороны, обнаруживает, что тот был заботливым отцом и мужем для новой семьи. Пока большинству кажется, что прошлое ворошить незачем, девушка хочет не переубедить, а понять. Что из её детских воспоминаний — правда? Как человек мог быть чудовищем для одной семьи и надёжной опорой — для другой? Можно ли простить непрощаемое? И нужно ли? Фильм занимается не вскрытием социальных язв, а расстановкой приоритетов, где собственные чувства оказываются выше обычаев.
Такой ракурс — глубоко личный, изнутри травмы, принимающий форму личной терапии, — примета нового времени. Российское арт-кино идёт бок о бок с зарубежным, в последние годы особо пристально вглядывающимся в человеческие шрамы. Речь не столько о психологизации образов героев известных франшиз и киновселенных, сколько о работе авторов с драматургией травмы. Непринятие нормативных моделей горевания — на Востоке: «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Личная жизнь» Кодзи Фукады; болезненное возвращение к прошлому в неготовности его отпустить — на Западе: «Солнце моё» Шарлотты Уэллс, «Мы всем чужие» Эндрю Хэя. Через несколько лет после успеха картины Мартина Макдоны о не смирившейся с потерей дочери американки «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) в российском кино появляется «Мама, я дома» (2021) Владимира Битокова — об одиночной борьбе матери за возможность проститься с сыном. Каждый из фильмов глубоко укоренён в культуре своей страны, но говорят они на одном языке.

Кажется, что дело не в оглядке и не в стремлении следовать широкой тенденции, а в общем чувствовании времени. Спокойно в мире вроде бы никогда и не было, но начало нового десятилетия в очередной раз доказало хрупкость человеческой жизни и миропорядка. С наступлением пандемии общество стало испытывать коллективную форму горя, а акценты в кинематографе, как ни парадоксально, сместились от социального к частному. Жизнь за закрытыми дверьми обрела новое измерение, пространство личного заполнило всё. Человек стал внимательнее к своим чувствам, а иногда и чувствам другого. От тихого сандэнсовского инди до крупных оскароносных хитов — кино нащупывает новый язык для интимной беседы со зрителем, настаивает на эмпатии.
Но на российской почве всё обрастает своей, укоренённой не только в культуре, но и в нынешних реалиях спецификой. Взять, например, картины «Белый список» Алисы Хазановой и «110» Ильи Михеева, присматривающиеся к современным подросткам и травмирующему их миру социальных сетей, буллинга, непонимания старших. В «Белом списке» оперативники расследуют череду самоубийств старшеклассников в Подмосковье, пытаясь найти причинно-следственную связь между ними. Но чем дальше продвигается расследование, тем глубже оно увязает в очевидном: никакого злого умысла нет, есть куда более страшная вещь — равнодушие. Взрослые ведут себя безответственнее несовершеннолетних, они не склонны к рефлексии, предпочитают забыть всё плохое и «быстрее двигаться дальше», скинуть вину на «судьбу» или обстоятельства вместо того, чтобы попытаться понять, что они могли сделать не так. Синие киты проплыли мимо.
Если картина Хазановой — это взгляд на проблему с позиции родителя, то фильм дебютанта Ильи Михеева продолжает разговор о школьной трагедии от лица самих подростков. В «110» (номер статьи Уголовного кодекса «доведение до самоубийства») старшеклассница разрывает отношения со сверстниками, отказывается говорить с матерью, ведёт себя странно — всё из-за того, что её одноклассница недавно покончила с собой, в том числе из-за школьного буллинга. Всё самое страшное уже случилось, и остаётся сделать выбор: закрыть глаза и свыкнуться или попробовать изменить что-то в себе и вокруг себя.

Схожие нарративы можно обнаружить и в сериалах. «Лихие» Юрия Быкова и «Трасса» Душана Глигорова хоть и работают в чистых жанрах — криминальной саги в первом случае и детективного триллера во втором, — тенденция разговора о травмах добралась и до них. В «Лихих» речь о семье, разъедаемой «токсичной маскулинностью»: отец приводит сына в мир криминала, а последствия этого растягиваются на десятилетия. По принципу «насилие порождает насилие» развивается и «Трасса», где исчезновения девочек-подростков оказываются частью жуткой воронки, в которую одно поколение втягивается за другим. Оба проекта написаны сценаристом Олегом Маловичко, на этой же теме построившим другой свой сериальный хит — «Хрустальный». В центре этого детектива оказался полицейский, сам в детстве подвергшийся сексуализированному насилию, травмировавшему его на всю жизнь.
Несмотря на частые упрёки киножурналистов в «недостатке рефлексии», российское кино последнего времени упорно доказывает обратное. Оно выносит травматическое событие за скобки, оставляет за кадром, концентрируясь на том, что происходит после. Освобождает место для проживания чувств и эмоций. Это поколение режиссёров, преодолевающее затянувшееся молчание. В отличие от своих героев, оно уверено: осмыслять травмы больно и страшно, но для того, чтобы двигаться дальше, — необходимо. Где-то нужные слова и средства только нащупываются, где-то уже есть проторённые колеи, по которым прокатятся ещё десятки фильмов и сериалов.