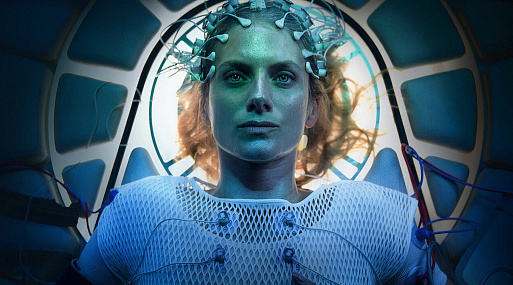В прокате мультфильм-долгострой Андрея Хржановского — классика советской и российской мультипликации. Признанный одним из главных событий пандемического 2020-го, только сейчас он добрался до полупустых (или наполовину полных?) кинотеатров. Алексей Филиппов, вооружившись тактикой видеоблогера Евгения Баженова — вырывать сцены из контекста и иронично их интерпретировать, — рассказывает, почему памятник советскому авангарду выглядит как клиент скорее музея, чем большого экрана.

«Нос» Андрея Хржановского, opus magnum живого классика, созревавший половину века, охватывает вообще полтора-два (по бокам от XX-го). Исторический палимпсест, на манер носа вырастающий от Гоголя до Шостаковича, от Хржановского — до мигалок современности. Эта работа монументальна, но, кажется, с того момента, как замысел выехал из родных мест Гоголя, телеги устарели, а философское суждение обратилось скрипом колёс. Раз сам мультфильм состоит из трёх снов, то на разговор о нём нам должно хватить и трёх гэгов.
I.
«Нос» начинается в самолёте, носящем гордое имя Николая Васильевича Гоголя. На борту — цвет культуры: театральные режиссёры Анатолий Васильев, Юрий Крымов, Кама Гинкас, Римас Туминас, переводчик Виктор Голышев и сценарист (в том числе этого мультфильма) Юрий Арабов, актриса Чулпан Хаматова и основательница фонда «Вера» Нюта Федермессер, киновед Наум Клейман и кинокритик Антон Долин, музыкант Леонид Фёдоров и кукольный режиссёр Резо Габриадзе, наконец — сам Андрей Хржановский, а также тени незабытых соратников — Данелии и Гуэрры, Глинки и Шостаковича, Мейерхольда и самого Гоголя. Все они, как сообщает закадровый голос, летят «вместе, но в разных направлениях».
Самолёт — парящий ковчег великой, но при этом неугодной, «не такой» культуры, которая давно записана в учебники. В тоске — пока смутной — гиганты мысли смотрят хорошо им знакомые фильмы. Крупнейший специалист по Сергею Эйзенштейну Клейман снова пересматривает «Ивана Грозного». На соседнем экране — «Мне 20 лет» ушедшего несколько лет назад Марлена Хуциева; конечно же, мимолётная сцена, где случается камео других титанов — Тарковского и Кончаловского. Мелькают кадры из «Мой друг Иван Лапшин» и отчего-то «Носферату».
Внушительно. Примечательны тут два момента. Одна из современных мыслей — печальная обращённость культуры в прошлое. Все сюжеты — о былом, вся эстетика — парад очень странных дел, государственная линия — заботливая мумификация почётных страниц истории и утилизация спорных или даже ужасных. В этом современная Россия не далеко падает от советского дискурса, разгонявшего выставки совриска и ставившего Пушкина в ряд к прочим удалённым классикам, «тем, кого каждый должен знать». К этому же отсылает многозначительный обмен репликами: мол, опубликовали список 100 книг, которые положено прочесть культурному человеку. «Интересно, — звучит вопрос, — вхожу ли я в число культурных людей?»

Как бы «Нос» иронически ни закидывал удочки из XIX века — сквозь авангардный и жуткий XX-й — в несчастный XXI-й, сегодня такой вопрос не то чтобы не стоит, но близится к своему счастливому разрешению. Культура ноубрау — неделения на высокое и низкое — чихать (sic!) хотела на авторитеты, приоритеты и мыслительные штампы. Тем не менее заявленная мультфильмом матрица — чтобы это слово оказалось уместно, в кадре даже появляется фотоаппарат Canon, — одним щелчком затвора исключает работу Хржановского из какого-либо актуального русла мысли.
Вторая деталь — сам формат «ковчега» — тоже. Рано или поздно для большинства могучих классиков наступает миг, когда история заканчивается, и всё, что стоит делать, — это свистать всех наверх и задраить люки подлинного искусства. Александр Сокуров, с которым Арабов сочинил «тетралогию власти», снял целых две таких панихиды Искусству — «Русский ковчег» (2002) и «Франкофонию» (2015). Прощальным фильмом Алексея Германа оказалась более заковыристая, многослойная и трудоёмкая вариация этой упаднической мысли по мотивам «Трудно быть богом» (2013).
Иными словами, уже условия задачи сообщают, что перед зрителем монументальная, многолетняя работа, целящая скорее в историю, чем в современное сознание. Парящий музейный экспонат.
II.
Первые, собственно, анимационные кадры, уже помещённые, заметим, в соседний ряд с «Иваном Грозным» и «Заставой Ильича», в полной мере демонстрируют концентрированный авторский метод.
Выехал Николай Васильевич Гоголь из родительского дома, глядь — в правом окне «Ваза с 15 подсолнухами» Ван Гога, в левом — «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи. Едет писатель сквозь поле культуры в Петербург — не доедет до конца.
На месте его настигает уже другой коллаж — балаганный: смешался юный «синематографъ» с цирком и площадным театром, встретились на пятачке — Гоголь, Шостакович, написавший первую советскую оперу по мотивам «Носа», и пророк биомеханики Мейерхольд, у которого в одном глазу — авангард, в другом — скорый расстрельный приговор.

Дальше карета так и покатится: летят в небе «Двое над городом» Марка Шагала, ставшие сегодня афишей нового Роя Андерссона, другого гробовщика великого века; в кинематографическом балаганчике кадры штурма Зимнего дворца, сочинённого Эйзенштейном для «Октября», перетекают в знаменитую сцену на лестнице из «Броненосца “Потёмкин”»; звучит, собственно, опера, а классики обращаются в зрителей. То есть мы смотрим, как люди в самолёте смотрят, как их предшественники смотрят…
…как Прасковья Осиповна в погоне за мужем-цирюльником Иваном Яковлевичем, случайно отрезавшим злополучный нос, обращается в плачущую пикассовскую женщину, а затем и в ведьму, гоняя его по квартире, как драного кота.
Тут поле абсурда сгущается: вот уже разыскивает подле Казанского собора свой драгоценный орган коллежский асессор и майор Ковалёв. И встречает его — верхом на коляске, которая вскоре покатится, как у Эйзенштейна, а пока окружена бугаями из XXI века, сопровождающими президентский транспорт. Тянут его репинские страдальцы с картины «Бурлаки на Волге», провожают — суриковские несчастные с картины «Боярыня Морозова».
У чиновника, к которому тогда Ковалёв обращается за помощью, лицо Игоря Сечина и «компуктер» (sic!) с пасьянсом и вордом, которыми он дирижирует посредством пера. За спиной — портрет телеведущего, да и зомбоящик при нём. В общем, слиплась в кадре вся Россия — выдуманная и реальная, вчерашняя, сегодняшняя и позавчерашняя. Метонимически в кадре разыгрывается гэг, делающий майора Ковалёва героем «Сватовства майора» кисти Федотова; смотрит со стропил за мучениями асессора крестьянин, откосивший от «На сенокосе» Малевича, да плакатные дворники. Мелькают руки и лица реальных художников, которые все эти истории создают за столом. Пост-пост, мета-мета.

Наиболее сущностная сцена этого парада — разговор двух зрительниц оперы, которые изучают профиль Шостаковича в инстаграме. И выглядит, мол, так себе, и на штанине дырка, и странные истории про петуха травит при встрече, и музыку свою пишет не для страны и не для общественной пользы.
Противление косной публике сегодня тоже занятие из взвешенных и признанных лёгкими — на обывателей держат зло лишь уставшие патриархи вроде Джима Джармуша, который в «Мёртвые не умирают» и вовсе рубил им бошки. Однако инстаграм и соцсети вообще, символизирующие в матрице мультфильма нарциссизм и поверхностность, на самом деле куда ближе к махине «Носа», чем думает Хржановский.
Всё то, что ставят в заслуги opus magnum, — насмешливость и высокая плотность поверхностных отсылок, история искусств для самых маленьких, сочетание музыки и видеоряда, смешение эпох и реальностей, художественной и вымышленной, — давно оружие общего пользования. Монтаж и аудиовизуальный контрапункт пользователи инстаграма и тиктока познают с неэйзенштейновской коляски; кровосмешение стилей и эпох — через мемы и прочие визуальные приколюхи вроде сатирических эпосов BadСomedian’а о бюджетах и багах отечественного кино; минное поле гиперссылок и трясину контекста — через википедию и бездны гугла. Интернет, конечно, не всемогущ, и полагаться на его сервера, как на память, опасно, но все сентенции «Носа», составленные мозаикой из памятников культуры, выглядят не то что архаично, а как — при всём уважении — «боян».
III.
Заключительный третий сон переносит зрителей из несбывшейся утопии советского авангарда, рифмовавшей двадцатые годы двух столетий, в сталинскую эпоху. Вновь вихрь задорного попурри: лица Булгакова, Ахматовой и Хармса, картины Пиросмани, двуцветные крестьяне Малевича и шрифты конструктивистских плакатов, а также ставшие «клюквой» мотивы вроде «Сулико» и «Калинка-малинка». В ритме макабрической пляски, во время которой вождь с Кагановичем и прочими Ягодами идёт смотреть «Нос» Шостаковича, страна преображается: авангард окончательно раздавлен могильной плитой соцреализма и сталинского ампира. Под ним умирает, в частности, жуткий «Пир королей» Филонова, задающий настроение этой пляске смерти.
В финале Хржановский составит прощальный коллаж — с лицами всех «не таких», изведённых проклятым режимом: Мейерхольд, Шаламов, Берггольц, Введенский, Андреев — имя им легион. Это настоящая стена плача; сцена, которая одна стоит почти всех культурных кружев «Носа».

Совмещением этой реальности с «пространством искусства», куда в перерыве между снами попали также «Механическая пьеса» Михалкова, «Берегись автомобиля» Рязанова и «Служили два товарища» Карелова, служит отвлекающим маневром, подобным стае самолётов с именами деятелей культуры, которые бороздят мрачное небо перед финальными титрами.
Бояться за культуру, которая меметична, плодовита, открыта к ремейкам (как Шекспир и ситкомы) и ремиксам (как Гоголь и «Звёздный путь»), не стоит. Опасаться за короткую память места и зрителя — тоже. Похоронить «своих» мертвецов под аккомпанемент диалога Путина и Мединского, выясняющих, где деньги на развитие Крыма, — бесценно.