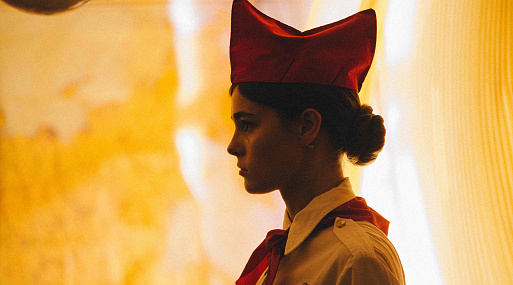Шарлотта Генсбур через объектив камеры любуется Джейн Биркин. А мы, сторонние наблюдатели, любуемся двумя женщинами из разных эпох, одна из которых уже и сама стала целой эпохой. «Джейн глазами Шарлотты» — удивительное документальное кино, в котором артишоку уделено больше экранного времени, чем Игги Попу. Подробно о картине рассказывает Максим Семеляк.
Фильм снимался без особого сценария (о чём его создательница Шарлотта честно предупреждает в кадре), и это, в общем, чувствуется. Отсутствие фигуральной драматургии скрашивается пристальностью и пристрастностью режиссёрского взора — собственно, это и есть фильм про взоры и про любовь как форму любования.
«Джейн глазами Шарлотты» начинается с гастрольной хроники из Токио (в Японии, кстати, частенько перепевали песни Генсбура), и идея кино проговаривается на первых минутах: находиться с камерой перед тобой — это просто предлог, чтоб смотреть на тебя.

Дежурные закулисные хроники с их рассуждениями о страхе сцены и репетицией песни Ballade de Johnny Jane с оркестром сменяются домашними элегиями, и деловито промелькнувшему Игги Попу в фильме в итоге уделено меньше экранного времени, чем свежекупленному артишоку, крупный продолжительный план которого, несомненно, заслуживает места в истории кинематографа.
Биркин отправляется с внучкой на рыбный рынок, возится на кухне, выбирает имя для щенка, режет персики, пьёт вино на холодном пляже за деревянным столом, жалуется на то, что врачи почему-то ей запретили есть именно севильские апельсины, и говорит о завещании.
Некоторые параллели с другими документальными материнскими портретами, например, «Недомашним кино» (2015) Шанталь Акерман, провести можно, однако фильм Ш. Г. при всей его кротости — это более сконцентрированное и светское зрелище просто в силу своих персоналий.
Мы наблюдаем двух звёзд из двух эпох, чьё излучение имеет принципиально разную природу, однако само их присутствие в кадре формирует реальность, всё же отличную от нашей, какими бы скромнягами-артишоками они себя ни окружали.

В этом фильме Джейн Биркин из красивой бирки эпохи на глазах сама превращается в эпоху. Она описывает тот возрастной момент, когда становится все равно, как ты выглядишь, — даже если лицо у тебя делается как колено у слона.
Из фильма следует, что в обмен на утрату красоты приходит неподвластное взору величие. Из него также следует, что сколько бы в жизни Шарлотта ещё ни сыграла и ни спела и какой бы Ларс ни поставил её в центр своих фантазий, мать со взором лани и телом лани всегда будет для неё далеко впереди, в прошлом, которое в принципе невозможно превзойти. Когда они обнимают друг друга, дистанция между ними проявляется будто бы ещё острее — кино приобретает почти бергмановское измерение семейной недоговорённости (это, кстати, касается и самого производства: мать, проглядев первые свои откровения, зафиксированные дочерью, отложила съёмки фильма на два года).
Мы вновь углубляемся в том числе и в разные формы любования: наружная Джейн — девушка с обложки, с разворота, с календаря на все времена, тогда как скрытая Шарлотта заключает в себе то, что Достоевский называл тайной нравиться без красоты.
То, что мучает дочь (например, позировать для фотосессий), то обожала мать, и из них двоих дочь первая замерзает на ветру, физическую боль переносит хуже, и вообще главная её закадровая просьба к матери, бредущей под синим небом, — научить её жить.

Лучшая часть фильма фиксирует их совместный (после тридцатилетнего отсутствия Джейн) визит в мумифицированную генсбуровскую квартиру на рю де Верней — в этой сцене тоже есть что-то бергмановское, похожее на эпифанию в волшебной лавке старого еврея из «Фанни и Александра». Из квартиры принципиально ничего не выбрасывается — вплоть до отработанных батареек и гниющих в холодильнике шоколадок, всё в точности как было при хозяине, разве что банка сардин взорвалась, не выдержав гнёта лет.
Белые туфли Repetto, пачка «житана», скульптура Клода Лаланна «Человек с капустной головой» (бонжур, артишок), подарочная дымовая труба, выдохшиеся духи,
русская деревянная ложка, банановое пюре, гобелен со сценами пыток, по-парижски крошечная кухня — таковы воспоминания на ощупь («Как в Помпеях», — замечает Джейн, стоя при этом у портрета Бардо).
Про самого хозяина жилплощади на рю де Верней, кстати, в фильме говорят сравнительно немного — мать Шарлотты жалуется, что в молодости они с Генсбуром очень жаловали алкоголь со снотворным, но если с питьём ей с тех пор удалось подвязать, то таблетки с ней и поныне. Кроме того, Генсбура, видите ли, забавлял тот факт, что весь день она, как правило, ходила голая, а спать ложилась неизменно в пижаме или укутанной во что-нибудь. «Я так любила твоего отца, что сделала бы из него чучело и усадила на кресло в кухне», — признаётся в одном эпизоде Джейн Биркин.

Сохранность и беззащитность в этом фильме предстают синонимами. Точнее, двумя сторонами монеты, вышедшей из обихода. Точнее, ближайшими родственниками, подобно героиням, объединённым общим стремлением к тому, чтобы ничего не менялось, — даже тогда, когда, как выражалась сама Биркин в позднем фильме Риветта, поздно крыльями махать.
Любящего взгляда никогда не хватает — свет уходит, как на всякой натурной съёмке, и перед смертью не насмотришься. Некоторое спасение нам дано в тактильных ощущениях, и потерявшая старшую дочь Биркин выписывает единственный рецепт — в зеркале себя уже не узнаёшь, но когда дотрагиваешься до губ, понимаешь, что это всё ещё ты.
Джейн и Шарлотта лежат в одной постели, меряются ростом и сравнивают разнообразные контактные ощущения. Джейн, в частности, вспоминает о давнишнем желании прикоснуться к обнажённой груди своей взрослеющей дочери — воспоминание достаточно неблагонадёжное по нынешним запретным временам (особенно если ещё вспомнить, как папаша некогда придумал выставить малолетнюю Шарлотту на всеобщее обозрение с песней «Лимон инцест»).
В целом же это кино — о возможности коснуться взглядом на пути к окончательной утрате и поисках чего-то осязаемого на расстоянии вытянутой руки, чего-то, за что можно ещё зацепиться, — будь то севильские апельсины, скульптурная голова-капуста или артишок в пол-экрана.