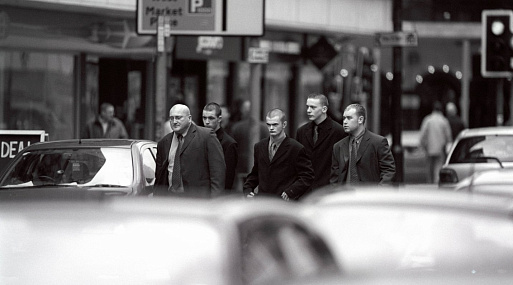На 47-м ММКФ в рамках Основного конкурса состоялась премьера фильма «Планета» с Сергеем Гилёвым в главной роли. Для режиссёра Михаила Архипова это дебют в полнометражном кино — не лишённый недостатков, зато подкупающе гуманистичный. О фильме рассказывает ученица «Школы критики» Мария Первушина (куратор текста — Артём Ремизов).
1960 год, Ленинград. Режиссёр-фантаст Николай Беренцев готовится к съёмкам фильма об экспедиции на Венеру, но что-то всё время идёт не так: то взбалмошный автор литературного первоисточника требует перекроить сценарий, то новое начальство откровенно саботирует проект. Поначалу неудачи не пугают Беренцева — он уверен, что его картина нужна миру, а значит, за неё стоит бороться до последнего. Сомнения начинают закрадываться постепенно: так ли необходимы человечеству истории о далёких планетах, если оно на своей-то не может всё устроить так, как надо?
«Планета» посвящена памяти советского режиссёра Павла Клушанцева — автора научно-популярных фильмов с элементами фантастики, изобретателя множества технических приёмов и спецэффектов. Его работами вдохновлялись фантасты по всему миру, Кубрик и Джордж Лукас называли его своим «крёстным отцом». «Планета» изначально задумывалась как документалка о великом режиссёре, незаслуженно забытом на родине, но в итоге переросла в художественное кино. Это не байопик в чистом виде (даже имя главного героя изменено), а скорее фантазия на тему создания «Планеты бурь» — единственного полностью художественного фильма Клушанцева.

К реальной биографии режиссёра Архипов подходит довольно свободно, подгоняя её под классический (если уже не вторичный) сюжет: гениальный визионер противостоит жестокости власть имеющих и безразличию толпы и, даже проигрывая, с нравственной точки зрения всё равно побеждает. Правда, творец здесь всё-таки необычный: его миссия пролегает в области не только и не столько искусства, сколько математики. У каждого человека, считает герой Гилёва, есть свой «радиус добра»: чем о большем количестве людей человек заботится, тем шире этот радиус. Главной задачей своего фильма Беренцев видит даже не художественное высказывание, а расширение «радиуса добра» зрителей, в идеале — до размеров целой планеты. Конечно, лучший способ это сделать — показать Землю из космоса, с максимальной дистанции. Напомнить человечеству, что всё оно, в общем-то, ютится на крошечном шарике посреди бесконечного мрака и не заботиться друг о друге в таких условиях попросту глупо.
«Планета» Архипова магическим образом рифмуется с другим произведением о взгляде на Землю с высоты — с «Планетой людей» де Сент-Экзюпери, главная мысль которой, по признанию самого автора, очень проста: «Вы обитатели одной планеты — Земля, пассажиры одного корабля». Корабль (пока ещё не космический, а только самолёт) — символ технического прогресса, который, по Экзюпери, приближает нас к постижению смысла человеческой жизни. Похожим образом относится к достижениям науки и герой Гилёва.

Может быть, именно опора на математические формулы поначалу даёт Беренцеву столько надежды: если добро можно научно объяснить и измерить, значит, можно его и увеличить — и привести мир к счастью для всех даром. Вот только рационализация и контроль очень быстро оборачиваются иллюзией. Сострадание и злоба формулам не поддаются — напротив, это они управляют всем, что создаёт технический прогресс. Человеческие чувства, непостижимые и загадочные, движут всем миром — и заодно участниками съёмочной группы Беренцева. А потому режиссёру никогда не снять своё идеальное кино, математическим образом увеличивающее градус добра в мире. И только выпустив из рук штурвал и шагнув в бесконтрольную невесомость, герой вдруг встречается с чудом, которого никто не программировал и не ждал. И тогда его фильм наконец получается — неидеальный, но яркий и живой.
Точно так же неидеальна сама «Планета»: картина то и дело норовит развалиться на череду не связанных между собой эпизодов. Сюрреалистические сны и дневные грёзы Беренцева идут вперемешку с совсем уж наивными диалогами, в которых герои прямо проговаривают самые важные смыслы. Нестройность повествования «Планеты» можно рассматривать как режиссёрскую слабость (всё-таки дебютант), а можно — как художественный приём. В любом случае в этой далёкой от золотого сечения какофонии всё же кроется своя прелесть: она подобна самой жизни, в которой спонтанность всегда побеждает логику, а хаос подчас оказывается ничем не хуже космоса.