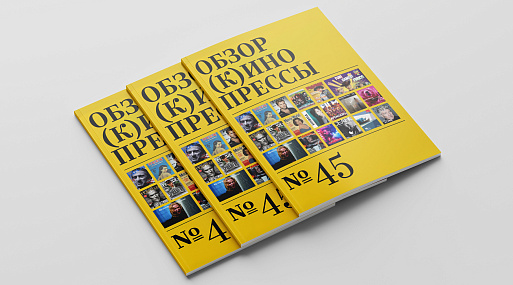20 ноября в российском прокате стартовал полёт «Авиатора» — экранизации титулованного романа Евгения Водолазкина. За адаптацию литературного текста отвечал в том числе Юрий Арабов — постоянный соавтор Александра Сокурова и Андрея Хржановского, а режиссёром проекта выступил Егор Кончаловский. Как и любая адаптация, «Авиатор» отличается от первоисточника: кинематограф и литература — два медиума, говорящих на схожих, но всё-таки в корне различных языках. «Авиатор» отдаёт себе в этом отчёт и по крупицам собирает слова-образы из книги, оформляя их в визуальный эквивалент на экране. Время и память, любовь и воспоминания, изменённые до неузнаваемости локации и смутные реминисценции из прошлого настойчиво прорываются в ткань настоящего.
Киновед Валерия Куприна рассказывает, из чего состоит фильмический «Авиатор».
Нарративные структуры, персонажи и актуализация
В отличие от литературы (и игр), кино стремится к универсальному взгляду. Так, «Авиатор» отходит от механики POV из первоисточника, но сохраняет полифонию голосов. История раскрывается непосредственно через её ключевых участников: Иннокентия (Александр Горбатов), доктора Гейгера (Константин Хабенский), его ассистентки и жены Насти (Дарья Кукарских), а также олигарха Желткова (Евгений Стычкин). Роль последнего в фильме значительно расширяется — теперь это не просто загадочный спонсор-политик, на волне моды подхвативший идею крионики, а глубоко мотивированный человек, для которого разгадка тайны эксперимента на Соловках сродни вопросу жизни и смерти.

Сменившиеся временные координаты (действие романа происходит в 1990-х, а фильма — в недалёком для нас 2026-м) также работают на актуализацию и уплотнение образов. Будь то жаждущий бессмертия миллиардер — аллюзия на всякую мировую элиту; будь то учёный, разрывающийся от отсутствия work-life balance и невозможности озвучить мучающие его вопросы. Наиболее близким к первоисточнику остаётся персонаж Иннокентия — «ровесник века», но «лишний» и «чужой» во всяком времени. Именно его присутствие как человека из прошлого толкает остальных к рефлексии и диалогу: его хрупкость, какая-то немыслимая в XXI веке искренность и прямота работают катализатором. Так прошлое двигает настоящее и делает возможным будущее.
Санкт-Петербург, Петроград и снова Санкт-Петербург
Основное место действия в фильме переносится из лихих девяностых в наши ревущие двадцатые. Эпоха конца века в романе едва ли отличается по атмосфере от послереволюционной разрухи, свидетелем которой выступает главный герой. Экранный «Авиатор» играет на контрастах: упаднических картинах первой трети прошлого столетия и стерильном хай-теке современности — и ведь это очень точное сопоставление, задающее релевантный вопрос: что же сегодня страшит сильнее?




Маркерами новизны в «Авиаторе» выступают «Лахта центр», стеклянные веранды ресторанов с видом на Исаакиевский собор, пляжи Крестовского острова и модерновый дом с мириадом сенсорных панелей. Им противопоставляются улицы Петрограда в голодные послереволюционные годы, грязь и нищета, жуткие помещения Соловецкого лагеря и катакомбы под Секирной горой, где над заключёнными проводятся секретные испытания. В том числе — проект «ЛАЗАРЬ».
Светлым пятном среди прозрачной выверенности и мрачного декаданса проступают воспоминания Иннокентия о безоблачном дореволюционном времени и мимолетных мгновениях счастливой влюблённости — в том числе в своё дело. В них — солнечная Куоккала (нынешний поселок Репино), подёрнутый туманной дымкой Елагин остров, лаборатория отца отечественной авиации Жуковского и просторная квартира в центре Санкт-Петербурга, пока не заставшая «коммунальный вопрос». Всё это выглядит ещё более желанным и сказочным на фоне изменившегося современного ландшафта — так, пожалуй, воспоминания столетней давности и должен воспринимать вырванный из своей эпохи и жизни герой.
От воскрешения Лазаря к «Преступлению и наказанию»
Роман Евгения Водолазкина соткан из аллюзий и реминисценций, необходимых для экспликации различных временных отрезков — дореволюционной России, голодного Петрограда 20-х, Соловецкого лагеря начала 30-х — и погружения читателя в историю. В книжных описаниях деталей и климата разных периодов прошлого можно найти отсылки к произведениям Булгакова, Бунина, Мандельштама, Пастернака, Платонова, Лихачёва и так далее. Фильм перенимает эту тягу к литературным оммажам, вплетая их в экранное действие то словом, то образом. Так, Анастасия из прошлого зачитывает Иннокентию стихотворение «Авиатор» Блока, а сквозь повествование красной нитью тянется история о Робинзоне Крузо, которая как нельзя лучше олицетворяет судьбу и самого Иннокентия.

«Авиатор» — это в том числе и постмодернистская агиография, иносказательное описание жития святых. Недаром Иннокентий, носитель великомученического имени (Иннокентий означает «непорочный»), становится именно тринадцатым участником (апостолом) эксперимента «ЛАЗАРЬ», названного в честь возвращённого из царства мёртвых епископа. Это сразу впускает в нарратив вечный нравственный вопрос: может ли быть воздаяние без вины, а вина без искупления? Он же сподвигает на сравнения с «Преступлением и наказанием», что подчёркивается настойчиво повторяющейся в кадре бронзовой статуэткой Фемиды. В какую сторону склонятся весы в её руках — решать самому зрителю.
Время, память и воспоминание
Важнейший смысловой субстрат «Авиатора» — это, безусловно, время и память. Их скрещение и рождает воспоминание — то, за чем гонится главный герой и чего одновременно страшится. Здесь фильм Михалкова-Кончаловского вступает в концептуальное, метафизическое поле «Облачного атласа». «Авиатор» врезается в турбулентные перекрёстки истории и отдельных человеческих судеб — в нечто, знакомое по нолановским проектам. А ещё обнажает свою безудержную тягу сохранить и выразить субъективно подмеченные детали, единичный опыт, принадлежащий одному-единственному человеку и никому больше.

«Авиатор» посвящён спасению от забвения, он отходит от глобальных перспектив в сторону камерных, локальных, людских историй. Это экуменическая фантастика, где механизм свершения чуда важен не так, как то, что это чудо порождает. Ещё Августин писал, что время не существует объективно, а измеряется в душе. Так, определением времени становится «растяжение души», где прошлое существует как память, настоящее — как созерцание, а будущее — как ожидание. «Авиатор» редуцирует время как раз в пользу души — той, что, несмотря на тягостные испытания, остаётся чистой и несёт в себе свет, заражающий всех, кто с ним соприкасается.