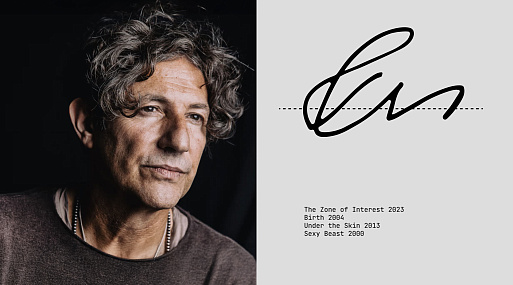В российском прокате нежится «Эммануэль» Одри Диван, переделка классического эро-арта семидесятых с Сильвией Кристель в главной роли. По этому поводу Антон Фомочкин с нежностью рассказывает о нескольких путеводных французских фильмах, по-своему определивших эту кинематографию.
Не помню, что увидел раньше. То, как Лилу Даллас в «Пятом элементе» настойчиво хвасталась мультипаспортом. Обеликс (в той части, что «Против Цезаря») мечтательно прикрывал очи, приговаривая: «Фальбала, ах, Фальбала». Или Депардье втолковывал Рено в «Невезучих», что у него взгляд лошади. В любом случае корни моей франкофилии нужно искать в детстве и постоянном соприкосновении с галльским культурным полем. Начиная с мульти-приключений Астерикса, которые обычно крутили по ТВ преступно рано (часов в шесть утра), или упоительных доку-нырков Жак-Ива Кусто в вечность и заканчивая тем, как я сам утонул во французском экстриме, который искренне считаю последней громадной, важной и долгоиграющей волной в истории кино. И уж подавно то, что Делон, Бельмондо и де Фюнес — незыблемые величины (как минимум для окружающих взрослых), было также схвачено с малых лет. Остальное — история любви, длящаяся по сей день. Потому это не подборка случайных классических фильмов, а список тех картин, при помощи которых будет чуть проще шагать по тропам версальского лабиринта французского кино.
«Мужские разборки» (Rififi), реж. Жюль Дассен

Фильм, на котором построил свою личность Жан-Пьер Мельвиль, — если вынести влияние «Разборок» за скобки его самурайской фильмографии, останутся только тёмные очки и шляпа с титульной фотографии режиссёра. Именно у Дассена, например, была позаимствована напоминающая немую хореографическую мистерию сцена ограбления, перекочевавшая в «Красный круг». Но Мельвиль, что «Боб — прожигатель жизни», — столичный везунчик, интеллектуал, который лишь умозрительно воспевал печально-пропащих мужчин с огнестрелом наготове под серым пальто. Дассен же — перекати-поле поневоле, воспитанник мхатовских традиций, нокаутированный судьбой-злодейкой не меньше своих вороватых героев.
Почти что по методу Станиславского он вживался в предлагаемые обстоятельства. В Голливуде спонтанно стал спецом по нуару («Обнажённый город»). После безработного бана за коммунистические симпатии эмигрировал в Париж и по-свойски очеловечил жанр фильма-ограбления, поп-разнообразие которого на тот момент было ограничено страдальчески маячащим в кадре Жаном Габеном. Сын Дассена Джо тоже не остался в стороне, вырос и стал платиновым национальным достоянием. Жюль же в конце концов примерил третью личность — влюбился на Лазурке в греческую актрису и осел в Афинах (где встретил старость), заодно выведя местное кино в люди (на «Оскар»). Звучит как идеалистический финал после провёрнутой аферы.
Подобным дельцем жизни для него и стали «Разборки», изрядно смягчённая экранизация беспробудно депрессивной одноимённой книжки Огюста Ле Бретона, определившая не только французский нуар, но и heist film как субжанр в целом. История про четвёрку таких же горемык, как и сам Дассен, которые решили обчистить ювелирку на улице Риволи. Формально каждый в банде — тёртый калач, но сердца у них беспокойные, никаких мельвилевских ледышек. Один, откинувшись, страдает по неверной бывшей. Другой, семьянин, завяз в криминале по молодости. Третий — патологически жизнелюбивый итальянец. Четвёртый — матёрый миланский пройдоха, да только по мальчишеской щедрости готовый раздаривать награбленное первой понравившейся девчонке. Артистов Дассен нанимал под стать, сплошь второразрядных, нетипичных и списанных. Венец тому — опальный алкоголик Жан Серве на главной роли, как и его сент-этьенец Тони, меченый невозможной тоской. Роль сверхвлюбчивого взломщика Цезаря Дассен и вовсе отдал себе.
“ Для Тони обнести бутик — инерция жизни, отвлекающая от чувств, что сложнее любых хитроумных планов, куш же — возможность не думать о неопределённости завтрашнего дня.


И разве могло бы что-то сойти с рук столь бедовой шайке? Даже при безупречном ограблении, ведь в «Разборках» обречённость разливается в отрезвляющей зимней парижской серости. Через ту же оптику фатализма будут впоследствии смотреть на мир герои «новой волны». Новаторство Дассена — в человечности, ведь каждому в квартете не чужда сентиментальная слабость. Да и махать кулаками здесь приходится не мужчинам, а злому року: собравшиеся только и делают, что по очереди принимают удары. Одно из значений загадочного оригинального названия, фыркливого «Рифифи», звучащего в роскошном музыкальном номере обольстившей Цезаря певички (Магали Ноэль), — что-то вроде решающего боя. Но схватку эту герою придётся вести с самим собой, а не кем-то другим. Тогда-то, в своём последнем забеге, который Дассен решает в традиции поэтического реализма (и «Осенних туманов» Дмитрия Кирсанова), Тони наконец взглянет на замёрзшие кроны деревьев, стянувшие седое небо, и перестанет бояться завтра, успокоившись за свою совесть.
Дилогия «Жан де Флоретт» и «Манон с источника» (Jean de Florette, Manon des sources), реж. Клод Берри

В любой кинематографии есть образцово неподъёмный кинороман а-ля «Унесённые ветром» — чтобы и о семье, и о любви, и о вечном. На каком же томике стоит остановиться по Франции? Золя? Стендаль? Бальзак? Конечно, можно присоединиться к Антуану Дуанелю и благоговейно поставить свечку последнему (как, впрочем, и остальным), но у каждого из великих было минимум по паре значительных экранизаций. Выбирать между ними — сродни думам у книжной полки по составлению ограничительного списка того, что хочется взять на необитаемый остров (обычно топ-3). Однако есть подходящий великий фильм, чей прозаический геном первоисточника буквально основан на кинообразе, а не только на непаханой широте литературной мысли.
Режиссёр Марсель Паньоль выпустил двухтомник «Вода с холмов» с оглядкой на свою же двухсерийную картину «Манон с источника» (1952), благополучно приписав ей приквельную часть. Эту пересборку и экранизировал Клод Берри. В Прованс после утихшей Первой мировой возвращается некрасивый чудак-мужчина Юголен Суберан (Даниэль Отой), компенсирующий придурь предприимчивостью. Он предлагает своему дядюшке Сезару (Ив Монтан) инвестировать в гвоздики — только нужный для их выращивания родник бьёт на участке, владелец которого вскоре погибает по вине семейки. Наследную эстафету принимает Жан Кадоре (Жерар Депардье), горбатый идеалист, решивший перевезти в деревню семью и плодить на природе кроликов. Только вот до Субераны успели заделать родник. Так, земля сохнет, дожди обходят стороной. За тем, как Кадоре гробит себя, надеясь на чудо, наблюдает его малютка-дочь Манон (в сиквеле — Эммануэль Беар). Получился задуманный как двухсерийный шоурил всех мощностей французской киноиндустрии середины восьмидесятых (заодно отрекламировали и Прованс).
“ «Жан де Флоретт» — это могучая и ветвистая поколенческая сага о том, что человек — непаханое поле, которое, неутерпев, проще бросить, чем облагородить.

Есть просторы, необычайно красивые от природы, вроде Манон. Есть рыхлые, отталкивающие, как Юголен. Есть холмистые, сложные, своенравные, как Жан: его приверженность наследным угодьям — словно олицетворение идеи благородно-упрямого возделывания вольтеровского сада. Депардье же в трогательной, муравьиной уязвимости своей роли выходит в стратосферу лицедейства.
Любые земли нужно смягчать и подпитывать — надеждами, заботой, верой. Даже если верить хочется в проливной дождь. Как известно, вода камень точит, но на суберановскую совесть ей понадобится годков куда больше. И здесь Берри, следуя слову Паньоля, начинает с деревенской простотой говорить о высоком, да так доходчиво и поэтично, что многим не хватило бы и собрания сочинений, чтобы выразить хотя бы половину от этой лекции по возделыванию человеческих душ. Обычно в таких кинороманах хеппи-энд отдаётся на откуп судьбе. Берри же не без иронии подмечает, что управлять массовым сознанием нужно по-режиссёрски, своими силами, как и ковать счастье.
«Ночь у Мод» (Ma nuit chez Maud), реж. Эрик Ромер

Если в современном французском кино вы видите готовых загнаться по любой ерунде героев-интеллектуалов (или просто глубоких, рефлексирующих людей), ведущих долгие беседы о философии, сексе, искусстве, любви и сопутствующих ей курьёзных нюансах, то все они наверняка вышли из ромеровской курточки с меховым воротником, сродни той, что носил Трентиньян в «Ночи у Мод». Справедливости ради, на этом месте мог бы оказаться любой другой фильм режиссёра — все они похожи на полуночные флешбэчные откровения о заземлившихся чувствах, которыми с тобой делится спонтанный (или старый) знакомый. Предлагая ту точку зрения, когда о пережитое (не)счастливое романтическое увлечение можно сентиментально порезаться, стоит лишь его вспомнить.
Большими эти маленькие истории делает речь — вес слова у Ромера обретают лишь со временем, когда оседают в умах или доносятся как навязчивое эхо. Этого не понять в моменте. Ненавязчивые разговоры оказываются незамеченным односторонним флиртом. Равнодушные реплики — окрашенными грустью. Нечаянные встречи — неслучайными. Как и в «Ночи», ромеровские персонажи всегда говорят очень много — заполняя неловкие паузы, потому что в тишине им кажется, что они не в ладах прежде всего с собой. Жан-Луи Трентиньян, артист, чьё прекрасное лицо всегда выражало разумное сомнение, играет здесь набожного холостяка, утомлённого одиночеством. Ему приглянулась девушка из прихода (Мари-Кристин Барро), но мечтать и думать о ней куда приятнее, чем решиться на знакомство. Волею метели мужчина застревает в гостях у разведённой Мод (Франсуаза Фабиан), где в одной постели с ней в нравственных муках он и останется до утра.
«Ночь» — одна из ромеровских «сказок с моралью», самая святочная и нежная. И сложно найти более рождественский фильм, ведь заснеженными кажутся и меховое покрывало на постели Мод, и её ночнушка, и песок на пляже в финале. Формально в официальном режиссёрском цикле шесть сказок, но под эту характеристику подходит примерно каждая его картина. Ведь единственное волшебство, которое доступно в нашей обыденности, — чувственные уроки. Они заставляют время идти быстрее (от волнения). Преображают действительность. И кардинально меняют нас — на уровне опыта.
“ Ромер воспевает волю выбора (противостоящую воле случая), за которую может воздасться, а может и нет.

Безымянный герой Трентиньяна (обычный и одновременно особенный, как и все мы) каждый день выходит на балкон своего шале, смотрит на открывшийся пейзаж и будто что-то для себя решает. Многие делают не думая, он — рассуждая и пропуская главные дилеммы через пари Паскаля, рационализирующее ни много ни мало духовное начало.
Если Бог есть, веря в него, ты обретаешь рай. Если при этом его нет, то ты всё равно ничего не теряешь. Почему бы так не относиться к любви? Томиться по девушке из церкви, оставаться ей верным, чтобы теоретические отношения набрали вес (прямо как слова). Любовь — это такое же большое духовное испытание. Ромер постоянно проверяет это правило, как в «Ночи», так и в других своих работах, и оно никогда не подводит. Так имеет ли какой-то смысл наш выбор? Никогда не узнаешь. Хотя для тех, кто верит в сказки (с моралью), ответ очевиден.