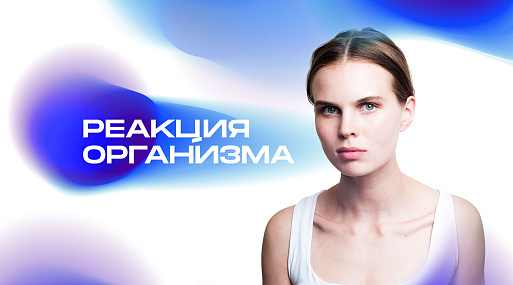На днях классическому нуару Билли Уайлдера «Сансет бульвар» исполнилось 75 лет. По случаю, отталкиваясь от одной конкретной сцены фильма, Антон Фомочкин рассуждает о необратимости времени.
Потерявши голову, молодой сценарист будет ещё несколько часов слагать истории вокруг её отсечения. В 1950 году главный герой «Сансет бульвара» драматург Джо Гиллис (Уильям Холден) — из числа начинающих, подающих надежды и в большинстве случаев обречённых на пассивное прозябание в безвестности — приземлился в бассейн лицом вниз, перед этим собрав своим корпусом три огнестрельных выстрела. Тусклым кадром его невесомого парения в вожделенном атрибуте буржуазной жизни на фоне растерянных копов и снующих репортёров Уайлдер начал и закончил свой фильм, обратив время вспять.

В сороковых были и другие нуарные попытки-полумеры поиграть с нарративом, заставив мертвеца слагать о себе небылицы (ну, почти). Когда престарелый гражданин Кейн (Орсон Уэллс) грохнулся оземь со снежным шаром в руке, зритель почти два часа был вынужден разбираться в многоголосице лукавых мнений о жизни нувориша, но вместо потенциально складного журналистского репортажа куда убедительнее говорили поступки зачерствевшего медиамагната. Или же в «Убийцах» Сьодмака, после того как экс-боксёра по кличке Швед (Берт Ланкастер) посреди ночи прикончил тандем мрачных вышибал, мы обречённо плутали посреди посвящённых его незадавшейся карьере флешбэков, так ничего толком и не узнав ни о нём, ни о фам фаталь, которую играла Ава Гарднер.
Из лоскутков зацепок, застрявших на колючем заборе сюжета, и там и там — по вырванной из контекста фразе-загадке («розовый бутон», «однажды я оступился…»), которую лихорадочно произносили герои-лакуны перед смертью. Поди разберись, что это значит, да и нужно ли? Совсем другое дело Гиллис, персонаж болтливее многих — он из последних нематериальных сил слагает едкую отповедь Голливуду, потому что почившим закон не писан и раз уж волею трагического курьёза стал жертвой «фабрики грёз», имеешь право докопаться до ржавчины на её холмистом монументе. Конечно, вывернув привычный драматургический порядок вещей, Уайлдер этим жестом сделал нечто большее: легитимизировал неизбежность, запустив совершенно иной ход часов, — теперь злоключения героя сопровождал мысленный таймер обратного отсчёта.

Мы знали, что насилие произойдёт. Ведь финал уже не перепишешь, волевой подбородок Холдена так и так уйдёт под воду и тело Гиллиса после этого не вернётся на землю по волшебству монтажных экспериментов какого-нибудь Жана Виго. Ставшее причиной по-бульварному пошлого убийства горячечное безумие экс-звезды немой эпохи Нормы Десмонд (Глория Свенсон) отходило куда-то на второй план. Это был изящный, манерный и психоделический метакомментарий на полях истории кино, который лишь дополнял столь непозволительную дерзость — с ходу расправиться с главным героем, лишив аудиторию привычных чаяний на то, что роковой выстрел упрётся в карманную Библию или серебряные часы, на счастье припрятаные в кармане.
Начиная с «Сансет бульвара» рассказчика не только стоило подозревать в ненадёжности — не было никаких гарантий его долговечности. Когда избитого и сломленного главного героя ёрнической супергероики Мэттью Вона «Пипец» обливали бензином, тот заходился в слезливом монологе о несбыточном будущем, заканчивая его вполне конкретным подмигиванием зрителю. «И если вы думаете, что мне ничего не угрожает, потому что вы слышите мой голос за кадром, тоже мне умники. Вы что, не видели “Город грехов”, “Сансет бульвар” и “Красоту по-американски”?» Выборка, впрочем, доказывает, что в ранге поп-культурных очевидностей к Уайлдеру долго никто не решался примкнуть. И то, даже спустя более полувека всё это напоминало интеллектуальный компромисс.


В конце концов, наблюдая за трагикомедией ошибок в «Красоте по-американски», сложно было с ходу предположить, что перед тобой натюрморт и воспрявшего духом Лестера Бернема (Кевин Спейси) придётся неиллюзорно сравнивать с розой распустившейся, стоило только забить на мещанские мечты. И конечность героя должна быть очевидна исключительно в силу того, что всё увядает, особенно если насилу сорвать это и положить на престижный дубовый кухонный стол, купленный для соответствия — скорее чтобы впечатлять приглашённых на ужин соседей, нежели из практических соображений. Но намёки-экивоки Мендеса в вопросах нарратива всё равно не чета прямолинейной наглости Уайлдера. Сколь бы пленительна ни была поэтика летающего на ветру пакета и прочая вайбовая подростковая VHS-лирика 90-х.
«Хочешь, чтобы я его убил?» — спросит в стартовом флешфорварде у подружки и по совместительству дочери Лестера (Тора Бёрч) её забулленный собственным тираном-отцом асоциальный бойфренд (Уэс Бентли) в неизменно несезонной шапке. Девушка восторженно кивнёт. Сам Бернем, проснувшись поутру в следующей сцене, станет тягостно глядеть в потолок со всей тоской, на которую только был способен артист Спейси в своём прайме. «Менее чем через год я умру», — без сожалений сообщит он в закадровом монологе. Но по какой причине и во внутрикадровом ли контексте, можно будет догадаться, лишь досидев до титров. Американская красота — в упадке. Медленном, неуступчивом гниении, которое подгоняет время (вновь оно). И оставаться на дистанции, не впасть в низменное помешательство, не уподобиться Гумберту Гумберту (удержавшись польститься на сверстницу-подружку дочери) — тот поступок, который возвышает Лестера вместе с его волей послать всех к чёрту над этим терновником. Это и роднило оптику Уайлдера и Мендеса, назначившего неизбежной участи своего героя срок в экранный год (плюс-минус), ведь Голливуд в «Бульваре» тоже расходился трещинами постепенно, при смене поколений.

В вопросах предрешённости всегда можно свести дискуссию к взаимоотношениям литературы и кино. Однако, будучи в курсе последнего железнодорожного рывка Анны Карениной или бессердечной жестокости судьбы-злодейки к парочке из «Прощай, оружие!», зритель хотя бы покупал билет, осознанно обрекая себя на сентиментальные страдания. Безапелляционность Уайлдера была в сломе привычного восприятия экранного течения времени. В кинозале мы всегда иначе чувствуем реальные часы, надеясь не заметить тот момент, когда настанет черёд появиться финальным титрам. «Бульвар» априори побуждал искать угрозу и тревожиться, наблюдая за шизофреническими рабочими буднями Гиллиса, вынужденного писательствовать под покровительством Нормы.
В этом не было банальностей вроде хрестоматийного пути героя, потому что как бы ни бунтовал и ни ерепенился Джо, к финалу его всё равно будут ждать радушные объятия слегка выдохшегося бассейна. И это знание доставляло того инфернального дискомфорта, который до сих пор будоражит в царстве этих горящих пальм и нарочито театральных отыгрышей. Спустя всё те же полвека лишь одна картина одарит нас уровнем тревоги и невозможности выше (при тех же концептуальных вводных). В этом трансгрессивном фильме про ненастную размолвку возлюбленных и последующую трагедию в подземном переходе режиссёр Ноэ прямым текстом подметит: «Время разрушает всё». А предчувствие необратимого только обострит зрительский опыт, ведь осознание неизбежного тупого и бесчеловечного насилия (даже экранного) отягощает болезненный момент, когда оно наступает. Кино, следуя восприятию Гегелем времени, это идеальная «абстрактная всеобщность». «Бульвар» был одной из первых спонтанных попыток эту мысль ухватить.