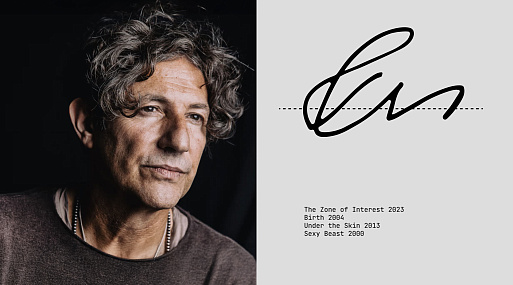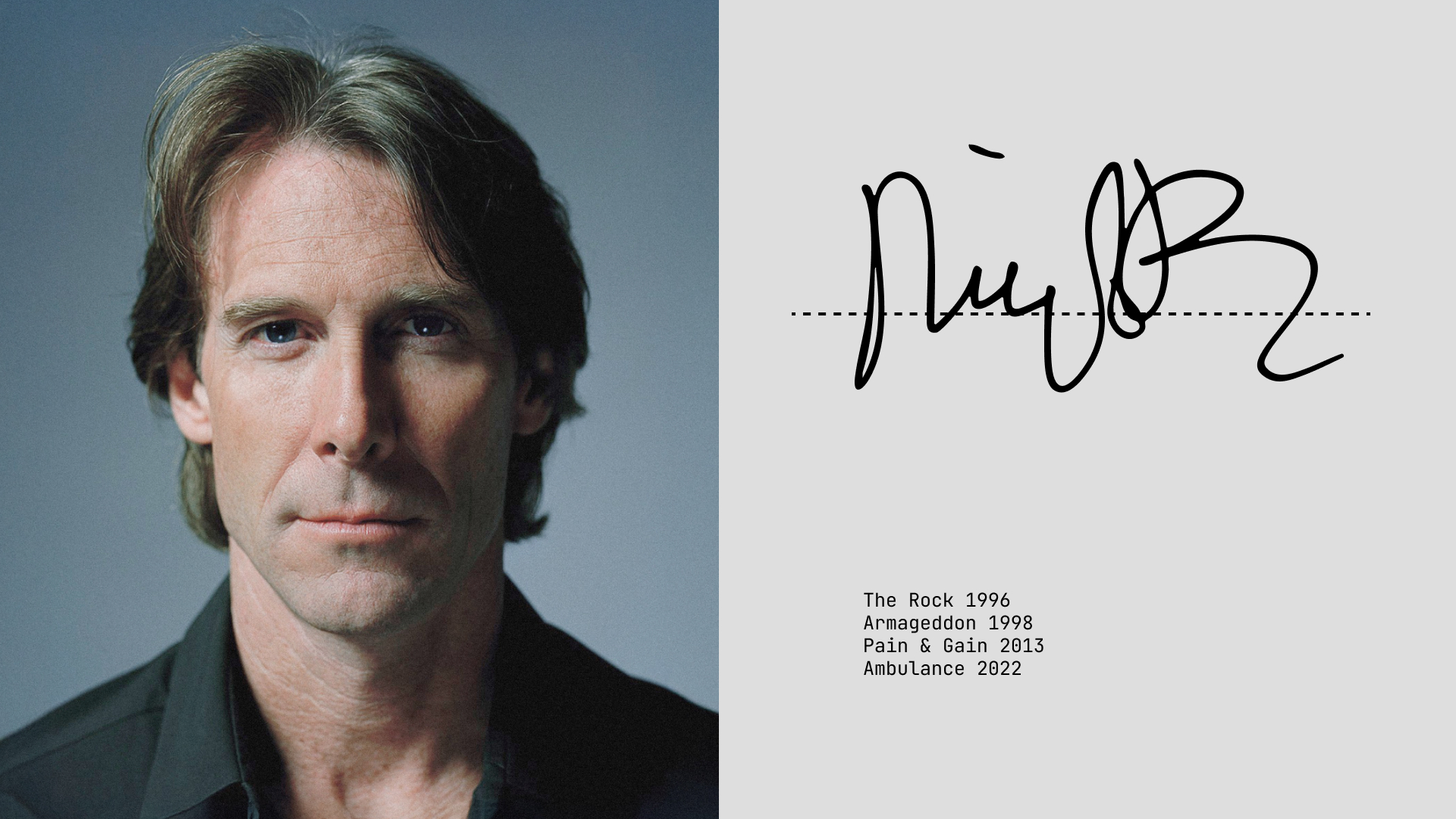
К 60-му юбилею мастера меча, огнестрела и пламени о кинематографе Майкла Бэя рассказывает Антон Фомочкин.
В последнем (на сегодня) трах-бах-эпике Майкла Бэя «Скорая» про двух приёмных братьев (Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II), опрометчиво решивших обнести банк на 32 миллиона, есть лишь одна музыкально-медитативная сцена. Не без подвоха. Столь размеренной она кажется исключительно тандему героев, в моменте разделившему друг с другом пару беспроводных наушников, что символически преломив хлеб. Им пришлось угнать карету неотложки с парой заложников на борту, поэтому в разгар преследования после неудачного ограбления и для успокоения нервов они включают Sailing в парящем исполнении Кристофера Кросса.
Так, им начинает казаться, что, не сбавляя газа, они лавируют по шоссе, будто это яхта, поймавшая попутный ветер. И целый мир подождёт. Сопровождение, навязчиво подмигивающее полицейскими мигалками. Кордоны патрульных. Фэбээровские кризис-менеджеры. Вертушки. Спецназ. Десептиконы. Астероиды. И маленькая собачонка. Какая, к чёрту, разница, кто на хвосте, когда есть ты, дорога, твой homie и песня? Такая она, мальчишеская отдушина. «Парусник уносит меня / В то место, о котором я всегда слышал, / Это как сон, ветер направляет меня, / И скоро я стану свободным», — не без вдохновения азнавуровской Emmenez-moi подмечает Кросс, намекая, что так и до Нетландии недалеко. О соразмерно малом и по-человечески простом счастье обычно думают и герои Бэя в моменты тягостных погонь и перестрелок.

Что там Нетландия, можно укатить и в Канзас (за срывающим покровы микрофильмом из коллекции Гувера), тоже ведь сказка в сравнении с утомительным спасением мира. Вот и в «Скорой» пафос музыкального броманса сбивается тем, что мы попеременно слышим, как герои горланят песню с перспективы заложницы-фельдшера (Эйса Гонсалес), уже без романтической подложки Кросса, словно те сидят в заштатном пьяном караоке.
Конечно, Бэй в каждом фильме эстетизирует дрожащий на ветру американский флаг, беззастенчиво смакуя и другие героико-патриотические атрибуты, но радость его кинематографа — в подавляющей зрителя перегруженности, возмутительной избыточности, отличающей неповторимый оригинал от реплики (типа Питера Берга).

Потому рядом с патетикой момента, где десептиконов стоически укрощают не только их собратья по машинной породе, но и плакатные вояки с квадратными подбородками, может стоять эпизод, где робо-шавка сношает ногу Меган Фокс. И в условности вселенной Майкла Бэя это здравая рифма, ведь на протяжении бесконечной «трансформерской» саги захватчики из космоса так и норовили проникнуть на Землю. Только вместо безвинно-детской трактовки этого действа (зло наступает, добро отбивается) у Бэя соответствующий процесс всегда ассоциативно напоминал пенетрацию.

Но разве пиротехническое порно — не стиль? Особенно если засилье огненных всполохов, сорванных фонарных столбов и прочих фоновых бликов — это неотъемлемая часть мизансцены, позволяющая создать тот фирменный эффект глубины кадра, когда камера в характерной манере объезжает героев, словно это горделивый античный монумент. Бэй — человек, разгадавший энигму крутости. Ничего сложного, главное — неустанно наводить суету (буквально чтобы на экране всё время что-то происходило) и видеть киногеничность без исключений каждого эпизода жизни своих героев. Как в лихой «Скорой», когда беспорядочную дорожную дуэль облагораживает размеренная песня про парус. Или в оде токсично-маскулинному идиотизму «Кровью и потом: Анаболики» — когда в терапевтических целях придурки-качки решают выместить пар, сделав несколько подходов, с пафосом, будто сейчас сделают экстренный укол адреналина в сердце. Чего уж говорить о невозмутимой проходке героя Энтони Маки с громадно-нелепой левреткой на руках. Или самозабвенном рывке Николаса Кейджа (в упоительной «Скале») по засовыванию в рот противника шарика со смертельным нервно-паралитическим газом.

Иной раз эта крутость карикатурна… Осознанно или нет, но как же Бэй чувствует! Он рёбенок, который, не оглядываясь, шагает от горящей мусорки, представляя себя победителем, оставившим поле межгалактического боя. Такие парни не смотрят на взрывы — от них искрит.
“ Главный фаллоцентричный объект в фильмах Бэя — сама камера.
И поскольку режиссёра безостановочно прёт от собственного искусства, его заразительное, вопиюще-эйфорическое возбуждение заметно в каждой сцене. Не это ли фундаментальный признак авторского кино? Индивидуально-неповторимое видение мира, узнаваемое с трёх нот скрежета металла, бравурной закадровой партитуры или скабрёзных приятельских реприз.
Бэй бывает и непривычно серьёзным, занимаясь монументальным мифотворчеством в адреналиновом эпике «13 часов: Тайные солдаты Бенгази», где до последней оторванной конечности шестёрка фактурных наёмников обороняет форпост ЦРУ от легиона местных боевиков. Или реконструируя (в привычной манере) нападение на Перл-Харбор, в сердцевине которого друг с другом невольно схлестнутся ещё и двое лётчиков/бывших приятелей (Бен Аффлек, Джош Хартнетт), — им придётся позабыть про любовный конфликт ради общего дела. Отравленная дружба в поэтике Бэя делает мужчину предельно уязвимым, ибо твой главный товарищ непременно brother from another mother и никак иначе. «Плохие парни», сколько бы оба героя ни верещали, пикируясь, как престарелые супруги, по сути, всегда был примерно о том же, криминальная завязка в любой из частей дилогии была сугубо третичной.


Но самая искренняя и болезненная ипостась Бэя — сентиментальный романтик. Футуристичный ли, как в «Острове», или, наоборот, апокалиптичный, как в восхитительно-бесстыдном «Армагеддоне». Здесь уже не укроешься за завесой разрушений. Когда, вглядываясь в растиражированное на десятки экранов лицо своего отца (с извечно застывшей ухмылкой Брюса Уиллиса), голубоглазая героиня Лив Тайлер, выслушав родительский монолог («Мне жаль, что не я поведу тебя к алтарю»), в бессилии застынет с рукой, приложенной к разошедшемуся помехами монитору, её рыданиям не поверит только последний десептикон с угасшим сердечным мотором. Чего уж говорить о скупых мужских слезах удаляющегося от астероида экипажа. В этой телевизионной ряби, к которой тянется девичья ладонь, и есть вся красота кинематографа Майкла Бэя. Она не отпускает экран, чтобы почувствовать. Вот уж воистину I Don't Want to Miss a Thing.