
Дмитрий Дебабов/РИА Новости
120 лет назад родился Сергей Эйзенштейн — пожалуй, самый важный человек в истории русского (как минимум) кинематографа. Алексей Гусев по просьбе КИНОТВ напоминает, почему это так.
На ежегодном фестивале архивного кино в Болонье, длящемся полторы недели, каждый вечер на старинной Главной площади, как стемнеет, показывают фильм: на огромном экране, для примерно полутора тысяч зрителей, помещающихся на площади; когда фильм немой — под живое сопровождение большого симфонического оркестра городской филармонии. В прошлом году, среди прочего, показали «Броненосец «Потёмкин». В последней, пятой, части мятежный броненосец один на всех парах идёт против адмиральской эскадры, готовой вот-вот открыть огонь. Напряжение всё нарастает, монтаж укорачивается, дула заряженных орудий вздымаются, обречённые матросы вглядываются в сигналы, что флажками передают с кораблей противника, — и тут: «БРАТЬЯ!» большими буквами во весь кадр, лица разглаживаются, взлетают в воздух приветственным салютом бескозырки, братское «ура» летит через головы царских офицеров, — и болонская Пьяцца Маджоре взрывается аплодисментами. Овациями. Вся. Не в знак уважения шедевру мирового кинематографа, — тот ещё длится, до финального титра несколько минут, — но от восторга: у них, у потёмкинцев этих, получилось!..
Тем вечером на ликующей площади ни один человек не считал, что Эйзенштейн устарел.
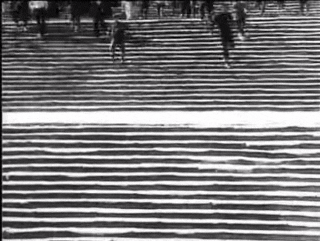
Можно бы списать на политическую ангажированность; Болонья и вправду один из самых «левых» городов в Италии, и аплодировать фильму, начинающемуся с цитаты из Троцкого, здесь всего лишь нормально. Так ведь зачастую с Эйзенштейном и поступают: числят вершиной коммунистической пропаганды. Да, конечно, классик, основоположник, гений, шапки долой… Но, пожалуй, несколько перехваленный, что ли. И смотреть его сегодня всерьёз можно либо от лютой ностальгии по советскому величию, либо от неумеренной синефильской бравады. Для одних он — безупречное алиби всему советскому искусству, а то и советскому режиму, где-то между ДнепроГЭСом и Гагариным, для других — столь же безупречный пример трагической судьбы великого художника, по прекраснодушию своему пошедшего на службу людоедскому режиму и принёсшего свой талант на алтарь тирану. Даже Солженицын, как известно, предъявлял ему этот счёт: воспел, дескать, культ личности в «Иване Грозном», и никакие художественные достоинства оправдать этого не могут, наоборот, усугубляют вину.

Дмитрий Дебабов/РИА Новости
Ни Солженицын, ни собеседники его по лагерной завалинке, суровым судом осудившие дважды лауреата Сталинской премии С. М. Эйзенштейна, не видели тогда второй серии «Ивана Грозного», где царь, наблюдая казнь бояр, обвинённых в сношениях с иностранными государями, хотел было осенить себя крестным знамением, да переменился в лице и прохрипел вдруг: «Мало!» Той второй серии, что вновь, как и первая, кончалась фразой «ради Русского царства великого», — но произнесённой уже не державно и торжественно, а подавленно, с натугой, с закрытым рукою лицом. Да и не могли видеть: сам Эйзенштейн умер в уверенности, что запрещённая вторая серия уничтожена, и копию нашли лишь через десять лет после его смерти, в 1958-м. Не видели они и третьей серии, ибо та так и не была снята: сохранился лишь один эпизод, исполненный вязкого параноидального кошмара, да сценарий, где, к примеру, в одной из сцен сын убивает отца, сына — тут же — один из преданных прислужников, а его — тут же — доверенное лицо царя. И уж подавно они не видели «Сентиментальный романс», короткометражку, снятую Эйзенштейном в Париже, где он оказался по дороге в Голливуд. С виду всего лишь первая проба новоявленной тогда звуковой технологии, по сути этот забытый фильм — рассказ о судьбе белой эмиграции, обречённой на одиночество, ностальгию да бесплотные фантазии; рассказ, который заканчивается… пророчеством триумфа. Прав был вождь, заподозривший, что флагман советского искусства вовсе не собирается возвращаться из своей творческой поездки в Америку. У матери, которую Эйзенштейн любил больше всех и всего на свете, тогда устроили показательный, нарочито грубый обыск, та в панике телеграфировала сыну, и Эйзенштейн, бросив отснятый материал, опрометью кинулся обратно. Больше его уже не выпустили.
Всё это не значит, конечно, что Сергей Эйзенштейн был скрытым антисоветчиком. Хотя, по иронии судьбы, ему это было бы тоже вполне органично: последний указ, подписанный Николаем II перед отречением в феврале 1917-го, был о присвоении потомственного дворянства Михаилу Эйзенштейну, выдающемуся рижскому архитектору; иными словами, автор «Потёмкина» и «Октября» — последний дворянин Российской Империи. Но Сергей Эйзенштейн не был антисоветским художником, как не был и советским: он — по масштабу личности, дарования, мышления — был крупнее всей советской власти, вместе взятой. Покойная Наталья Трауберг, выдающаяся переводчица и литератор, дочь знаменитого режиссёра Леонида Трауберга, в юные годы знакомая со всем (буквально) цветом советской кинематографии, была человеком святым и нелукавым, и о мосфильмовских корифеях, за редкими исключениями, отзывалась без всякого лицеприятия, деля их на простодушных болванов и всё понимавших циников (и то, и другое было страшно и по сути, и по последствиям). И лишь когда её спрашивали об Эйзенштейне, вдруг словно запиналась. Он, разумеется, тоже «всё понимал». Но в положенные игры он играл не от холуйства или цинизма. «Просто он думал, — тщательно подбирала она слова, — что сможет их обыграть». И едва ли не самое важное, что можно сказать об Эйзенштейне, — что у него, единственного из всех, это и впрямь могло получиться. (А на что он рассчитывал, запуская в разгар 40-х в производство сценарий с эпизодом, подобным описанному выше?) Он действительно мог, если называть вещи своими именами, на равных сразиться с дьяволом; у него — и только у него — действительно были шансы на выигрыш. Просто так вышло, что он проиграл.
…Он был игрок, Сергей Михайлович Эйзенштейн. Острослов, трикстер, ковёрный. Мейерхольдовская выучка привила ему вкус к гротеску и маскараду, лихие (во всех смыслах) времена пристрастили к молодеческому удальству, которое не оставляло его даже тогда, когда могло стоить ему свободы и жизни. Как и многие великие шуты, он был наделён подлинно трагическим видением мира, — ибо что «Потёмкин», что «Иван Грозный» отнюдь не кинопропаганда, но кинотрагедии, и искать в них лобовую агитацию столь же бессмысленно, как в «Эдипе», «Макбете» или «Борисе Годунове». От того так и тянуло его к старинной, особенно латинской культуре, где смерть нерасторжимо сплавлена с карнавалом, а смех заклинает ужас. Но то в фильмах, в статьях, в дневниках; на миру, где и смерть красна, он был балагур и хохмач, чьи словечки и выходки, неизменно снайперские и на грани фола, мгновенно становились достоянием коллег и сотрудников, а позднее — неизменным украшением их мемуаров. Эдакий Карлсон, пузатый и лобастый, который никогда и ни за что не упустит случая взорвать паровую машину. Потому что это ведь весело. Именно так он, к примеру, отреагировал на предложение нового высокого начальства экранизировать что-то из русской классики — сказал (прекрасно представляя степень невежества собеседника), что есть, мол, на примете прекрасный автор, причём запрещённый царской цензурой: Иван Барков. А потом вышел из кабинета — и прямо в приёмной, куда секретарше уже звонил воодушевлённый шеф с требованием достать ему экземпляр, пустился от восторга вприсядку, подмигивая барышне и приговаривая: «Как я сейчас вашего начальника [употребил]!..» Ему этого, конечно, не забыли и не простили. И он это, конечно, понимал. Но красота игры (или, если угодно, угар баловства) — важнее.

Дмитрий Дебабов/РИА Новости
Как и подобает мастеру фарса, жанра низкого и площадного, Эйзенштейн вообще не чурался непристойности — и это ещё мягко сказано. Блюстители хорошего вкуса сетуют на его фильмы, в которых бесперечь убивают невинных деток: так нельзя, это запрещённый приём, «удар ниже пояса»; что ж, про «ниже пояса» Эйзенштейн знал всё. За считанные секунды на любой салфетке набрасывал такие рисуночки, что и опытной женщине стало бы неловко. И не от какой-то плачевной эротомании, выдающей ущербность личности, — просто, если коротко и грубо, главный ход кинематографа Эйзенштейна — в сведении любого явления к базовой, сущностной графической линии, в обнажении костяка вещи или события, в выявлении их архаической, пралогической сути, которую можно было бы передать чистой, единой динамической траекторией. И понятно, что оппозиция «мужского/женского», «твёрдого/мягкого», «насилия/жертвы» — как раз из тех, базовых, первобытных, что коренятся в основе едва ли не любого конфликта. Бедняги психоаналитики исписали тома и тома про фалличность орудий броненосца или ливонской «свиньи», — и это, безусловно, справедливо и предусмотрено автором, но именно поэтому любые выводы относительно самого автора тут неизбежно окажутся ошибочны, да и мелки: Эйзенштейн попросту «употребил» и своих исследователей, ибо он — крупнее и психоанализа тоже.
Гринуэй однажды сказал, что в истории кинематографа было всего три великих режиссёра: Гриффит создал киноязык, Эйзенштейн довёл его до совершенства, Годар вывернул наизнанку. И когда, много лет спустя, Гринуэй — к ужасу любителей монументов — снял свой фильм об Эйзенштейне в Мексике, фарсовый, непочтительный и с гомосексуальными сценами, то это вовсе не означало, что он решил как-то принизить своего былого кумира — нет, он просто постарался попасть ему в тон. Как кинопроизведение, фильм Гринуэя его герою вряд ли бы понравился; но интонация портрета уловлена верно. Эйзенштейн слишком умён, чтобы быть монументом; всерьёз говоря, он был, пожалуй, самым умным человеком в России за весь минувший XX век (можно было бы сказать «за всю историю России», кабы не Пушкин). Его многотомное теоретическое наследие не освоено ни теоретиками, ни практиками и наполовину; его прозрения о сути и механизмах кинематографа (да и вообще искусства) могут и сегодня потрясти даже самого искушённого киноведа; и для тех, кто хоть что-то смыслит в кино, Эйзенштейн — вкратце говоря — весёлый, жестокий и озорной бог, каждое слово которого — откровение и насмешка одновременно. Особая оптика его зрения позволяла ему видеть мир как сплетение векторов и дуг, сочащееся кровью и семенем смыслов; он и вправду понимал всё — и в каждой линии умел прозревать суть и судьбу.
Ему было пятьдесят, всего пятьдесят, когда, после очередного жесточайшего инфаркта, он сидел и работал над статьёй. В одном месте почерк вдруг даёт сбой, рисунок букв искажён; примечание на полях — «здесь у меня схватило сердце». Несколькими строками ниже — ещё сбой, и опять примечание. В конце страницы рука сорвалась. В его кинематографе так выглядит смерть. Линия вышла за край листа.










