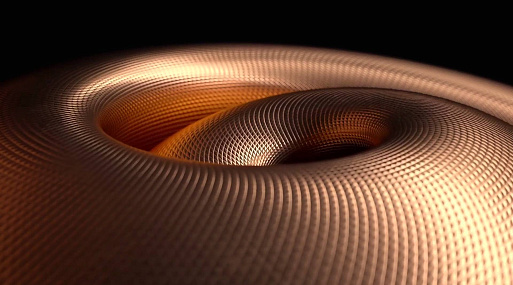На экранах — «Маленькие женщины», второй (с половиной) фильм всеобщей любимицы Греты Гервиг, девятая (кажется) экранизация романа Луизы Мэй Олкотт с одним из самых впечатляющих кастов сезона, в ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Мэрил Стрип, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Джеймс Нортон, Луи Гаррель и прочие и прочие. Зинаида Пронченко* делится своими довольно личными впечатлениями о картине. Сhercher, как говорится, le petits (в ваших мультиплексах)
Конкорд, Массачусетс, наши дни. Грета Гервиг перечитывает «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт, и по лицу её бродит грустная улыбка. Так улыбаются взрослые, уже кое-что повидавшие в жизни люди, которым в минуты слабости хочется «домой» или даже хуже того — «обратно в школу». Они, конечно же, знают, что пути назад нет, и даже их воспоминания больше похожи на «сказку о потерянном времени», нежели на «возвращённый рай». Но упрямо продолжают мечтать.

В новой адаптации (сколько их было всего, включая постановку на оперной сцене, уже не сосчитать) культового романа воспитания биография автора переплетается с вымыслом, художественное — со случившимся взаправду, причём говоря «автор», мы подразумеваем сразу двух женщин. Ту, что боролась с судьбой в разгар гражданской войны в США, и нашу современницу, режиссёрку эпохи миту, ставящую однако во главу угла старый добрый гуманизм, а не феминизм, ратующую как бы за эмансипацию, но не от противоположного пола, а от самой себя — своих слабостей, сомнений и откровенных недостатков, например, гнева с гордыней, вечных спутников человеческой натуры.

Четыре девушки в цвету грезят о любви — мужчин, читателей, меломанов, искусствоведов — в буколической глуши Новой Англии, знававшей писателей и художников в разы талантливее Джо Марч (Сирша Ронан) или её младшей сестры-завистницы Эми (Флоренс Пью). Но то были мужчины, гении с заглавной буквы, всегда интересовавшиеся миром больших людей и идей, а всё частное, сентиментальное, тёплое, как сладкий чай или скоунсы с вареньем, если и принимали во внимание, то всегда немножко снисходительно. Словно детские шалости/глупости. Роль женщины во вселенной не определена до сих пор, кто она — объект любви и вожделения, субъект домашнего очага и материнства, если вне зоны комфорта, значит ли, что ей прямиком на баррикады, отжимать территории, совершать реконкисту? Что уж говорить о веке позапрошлом.
А если я (мы) где-то посередине или, скажем, вовсе нигде? Если быть собой важнее, чем Кларой Цеткин, Самантой Джонс или Молоховец? Если есть потребность ошибаться, как в первый раз, будто не читали Симону де Бовуар, не смотрели Аньес Варда. Если есть желание выйти замуж по любви и всё равно искать свой путь в искусстве? Не спать по ночам, страдая над романом, и в то же время страстно хотеть поцелуев Луи Гарреля? Или даже пуще, осуждать женский расчёт и мужланские замашки, но с удовольствием соблазнять и отдаваться Тимоте Шаламе?

«Маленькие женщины» — манифест тех, кто долгие годы ждал своего часа и снова почему-то заперт общественной модой в графу «статистическая погрешность». Гервиг в своём втором фильме вроде играет в куклы, кружит по детской, миндальничает со зрителем, погружая его с головой во все эти поднадоевшие ещё пятнадцать лет назад, у Софии Копполы, девические бирюльки. В шёпот, робкое дыхание, трели соловья, в атласные кринолины на институтках и в ледяное кружево на стекле, в гребёнки, пилочки стальные и щётки тридцати родов — и для кудрей и для полов, что обязательно надо начистить для блеска, ведь скоро танцы, именины, Рождество. Однако сахарная глазурь не заглушает истинных вкусов/смыслов, что заметно горчат. «Маленькие женщины» не так умильны и политкорректны, как того требует новая мораль. Её героини маленькие только потому, что деревья большие, они разговаривают с высоты своего роста, не наступая на грабли максимализма, не выступая с табуретки феминизма.
Взрослым людям свойственно идеализировать прошлое, а старикам — впадать в детство. Всё, что у нас есть, — это мы сами, то, что с нами было и прошло. Только по-настоящему зрелые люди это понимают и не стыдятся ностальгии, Гервиг — одна из них, не спешит переписывать прожитое в угоду грядущему, у судьбы, может, и просит хеппи-энда, а у искусства знает, что не вправе. Милая Фрэнсис и Леди Бёрд созрела, чтобы сообщить миру, что гендерное не исключает экзистенциального, женское — универсального, а политическое — личного.
*Кинокритик Зинаида Пронченко включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста.