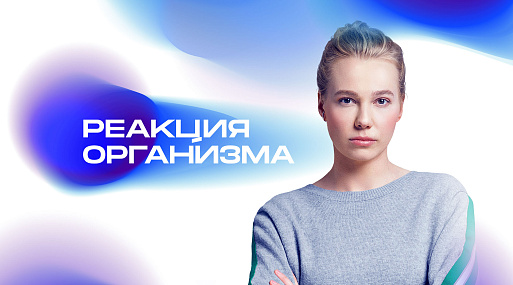20 марта в российский прокат вышел новый фильм Романа Михайлова «Жар-птица» — кино-сказка, кино-сон. Фильм про путешествие в сторону истины, где ритуалы, свет, судьбы запутываются в танец смыслов. Карина Назарова поговорила с режиссёром о его методе, киноязыке, отношении к советскому и современному кино.
Вы наблюдаете за жизнью, людьми, выявляете универсальные и одновременно уникальные вещи. Такое чувство, что вы взломали коллективное бессознательное, расшифровали некий код, всех объединяющий. Есть ли у вас намерение проникнуть в это измерение?

Такого стремления никогда не было — проникнуть в коллективное бессознательное. Старался копаться в своём восприятии, мышлении, как мог добирался до глубин. Работал на пределе в театре, литературе, кино. Да, в один момент понял, что куски моей деятельности воспринимаются другими людьми очень глубоко. Это не куски восприятия одного странного человека, а действительно что-то, касающееся коллективного интинуума (неологизм Михайлова. — Прим. ред.), коллективного скрытого. Но это не систематическое. Скорее, случайное попадание, возникающее из-за предельного погружения в своё восприятие.
В прозе, фильмах вы открываете невидимое взору, и всё же вы это невидимое почему-то вновь скрываете — так, что оно продолжает пребывать в тумане. Скажем, в последних ваших фильмах объекты будто сливаются друг с другом. Что это — осознанное сопротивление повседневности, художественная стратегия?
Это не стратегия, а спонтанность. Так получается. Это близко к потоковому творчеству. Начинаю делать картину и понимаю, что она такой должна быть. Порой понимаю, что она уже была сделана, вспоминаю то кино или кино-полусон, которые однажды видел. Пытаюсь восстановить их в сознании, исследую, вспоминаю нечто, отброшенное далеко в памяти. Бывает, кажется, что всё это существовало уже. Так было с «Жар-птицей». Когда мы смонтировали и посмотрели первую сборку, было ощущение, что это абсолютно стандартное кино, но в рамках забытой или утерянной традиции. Традиция была и потерялась, и всё кино куда-то исчезло.
В одном интервью вы рассказывали, как ради новых математических открытий отказались от прошлых, представили идеальный мир, где можно найти подтверждения всем гипотезам. Если я правильно интерпретирую…
Нет-нет…
Но мне очень запомнилось ваше описание момента, когда вы отринули всё, что уже знали…
Вы, наверное, про 2001 год и наш разговор с Феликсом Сандаловым. Тогда у меня произошла перестройка мышления, я сосредоточился на очень конкретном. Отбросил эрудицию, многознание, взял определённую область, две конкретные проблемы и начал работать в этом направлении. Раздал книги, ограничивал мир и ограничил себя аскезой. Вот так это было. И всё это привело к плодам спустя 16-17 лет.

В кино вы тоже отходите от многоуровневого знания, теорий, правил, жанров. Вы и «Жар-птицу» позиционируете как поиск нового киноязыка. Что неизведанного вам удалось найти в законах существования медиума во время съёмок, монтажа?
Нескромно скажу: свой метод производства кино. Не знаю, если бы взял другую команду, смог бы с ней работать или нет. Но с Лёшей Родионовым (оператор-постановщик. — Прим. ред.) у нас сложился наш метод. Он во многом касается актёрского существования, работы с актёрами, предполагает предельное погружение в материал. Когда мы вступаем в подготовительный этап, мы много общаемся с актёрами. Мы дружим. Рассказываю им всё-всё-всё, что понимаю про данный сюжет, данную стихию. Про всё, о чём мы будем снимать. Искренне и откровенно. Они наполняются этим.
Наш метод можно так представить: создаёшь мирок, приглашаешь туда людей и заботишься, чтобы им было очень интересно в этом мирке существовать. Их интерес даёт плоды. Ведь чем занимается актёр? Он управляет своей харизмой. Она его язык. Харизма просачивается через экран, доносит определённые состояния зрителю. Интереса актёра к существованию в рамках маленькой киновселенной достаточно — всё! Он работает с отдачей и не хочет уходить с киноплощадки. Не ради денег, ему интересно пообщаться, выхватить что-то новое, понять, что мы делаем.
Сначала казалось, что метод работает только в нашем узком кругу. А сейчас мы сотрудничали с болливудскими актёрами — у нас «Мисс Индия» снялась, в Болливуде живёт, — и им тоже было абсолютно в кайф работать на погружение, углубляться в разговоры обо всём. Они признавались, что в Болливуде им не дают такой свободы. Там — паттерны, строгие схемы, монтажные и съёмочные. Актёр в таких условиях не реализуется, как в театре. А мне, как человеку с театральным опытом, очень важно было перенести этот опыт в кино, создать живое проживание внутри кадра, основываясь на собственном восприятии.
А приходилось замечать это проживание, схожий метод в чужих фильмах?
Я смотрю кино, русское и нерусское, — практически нет проживания. Видно, как актёры ждут фразу «Стоп! Снято», чтобы пойти домой. Это лишь формальная игра. Да, существуют паттерны донесения истории, построения нагнетания, саспенса, музыки — всё это очень несложно делается, если есть капитал, но он инертно переливается в фильм, и получается продюсерское кино, где режиссёр выполняет формальную функцию. В таком кино всё несложное, пройденное, уже давно построенное. Голливуд работал десятилетиями, изучал, что такое зрелищное кино, массовое кино, какой ритм и как воспринимается зрителем, что его утомляет. Мы тоже используем это знание, когда выбираем оптимальный хронометраж, чтобы, с одной стороны, не перегрузить зрителя, а с другой — наполнить его этой историей, изложенной за полтора часа.
Следовать схемам несложно, но там, в продюсерском кино, нет свободы, которую актёр получает в театре или какой обладает в жизни.
Я беседую с актёрами, им не интересна профессия — вообще. Не интересны истории, сценарии, методы. Поэтому почти все с радостью соглашаются участвовать в дебютах. Дебютант не испорчен индустрией, кто его знает, что он снимет, — там может быть всякое. А именитый режиссёр уже попал в ловушку успеха, индустрии и ничего интересного не сделает — всё понятно, что там будет.
Наш сценарий подстраивается под актёра, а не наоборот. Важен момент чистого проживания в кадре, если он присутствует, то я готов менять смыслы, искать совершенно новое здесь и сейчас, вместе. И сколько дублей нам потребуется — неважно, надо добиться. Мы работаем очень близко к театральной форме, близко и к сновидческой форме — в плане монтажа. Так просто не изложить — нужны трактат, книга, где всё будет. Пишу сейчас заметки о ритме, киновпечатлениях — обо всём. Надеюсь, скоро выложу в открытый доступ.

Будем ждать. А разве в «Жар-птице» уже не звучит ваша формула кино: сцепление документального, игрового и ритуального?
Это всё-таки реплика персонажа. Он играет не меня, скорее Лёшу Родионова. Наш метод в полной мере реализован в картине «Путешествие на солнце и обратно» — пик нашей кинодеятельности, плод шестилетней ежедневной работы, результат изучения кино, философии и восприятия кино, странного и массового кино — всего. Этот фильм, наверное, — самый сильный мой фильм и, как ни странно, самый зрительский. Как можно снять глубокое и зрительское кино одновременно? Кажется, две противоречащие друг другу вещи? А в «Путешествии» нам удалось. На данный момент есть только одна амбиция: хочется показать нашу работу открыто, надеюсь, возможность появится, и вы увидите.
Касаемо «Жар-птицы», метода, вы упоминаете «образ-ритм», понятие из теории кино Стивена Шавиро, и, получается, приводите идею в движение, исследуете теорию на практике. Расскажите, как устроен механизм образа-ритма?
Давайте расскажу, как понимаю ритм. На меня произвела сильнейшее впечатление работа Леонида Сабанеева, музыковеда. Он приходит к тому, что ритм — принцип наименьшего действия в искусстве. Я занимался этим много-много лет, но в абстрактных категориях. Суть: мы смотрим на систему как на нечто живое, разумную форму, которой надо совершить деформацию, сборку, склейку — ей надо измениться. И она может сделать это по-разному, но в итоге делает оптимально, без лишних движений, по правилам минимализма. Если эта простота присутствует, Сабанеев говорит, что в системе есть ритм. Это меня когда-то очень впечатлило, потому что я этим же занимался: строил теории разумных, хищных, жидких пространств. Понял, что теория ритма согласуется с моими взглядами на всё, в частности, с концепцией бедного творчества без излишек.
В чём преимущество минимализма?
Стремление к излишеству — большое горе. Политическое, экономическое горе. В творчестве — тоже горе. Когда ты можешь высказаться, но используешь ненужное — шелуху, лишние декорации, — происходит захламление твоего высказывания.
В детстве пришёл к чувству: вот тебе дана жизнь, ты сидишь в комнате. Комната — это ковёр, портреты на стенах, половицы скрипят, ветер дует за окном, и тебе этого достаточно для познания. Человеческая природа настолько богата сама по себе, ей не нужны суперкомпьютеры, деньги для познания, или стремление к святости, или общение с Богом. Что уже дано человеку — достаточно практически всегда.
И ведь это тоже связано с ритмом — отбрасывание ненужного, излишков.
У нас бедное кино, нет денег, что тут говорить? Произведя восемь фильмов и сериал, мы только в долгах. Не заработали ничего за шесть с лишним лет очень глубокого труда. Это может вызывать внутренний протест, но на самом деле это абсолютно нормально. Не надо стремиться к иному. Сейчас у нас нет денег снимать новое кино. Ну, нет и нет. Значит, напишу текст, появится театр, который позовёт делать масштабную постановку, человек, который скажет: «Я тебе даю денег, снимай что хочешь». Это будет очень скоро. А если не будет, то найдутся другие ходы для творчества. Это и есть ритм на самом деле — движение по оптимальному пути для выражения своих ощущений.

У меня к вашим фильмам есть доверие. Пусть внутри разворачивается онейрическая реальность, эзотерическая, странная, непохожая на нашу — но она наша, очень живая, природная. Вы чувствуете, как при создании кинематографического мира, своей системы, помимо ритма, реализуете в них глубинные механизмы природы. Осуществляете природную, нет, даже божественную волю?
Создание кино — большая ответственность. Мы запускаем что-то в будущее, и оно может быть вредным. Через 20-30 лет люди посмотрят фильм, вдохновятся, и он станет основой для новой субкультуры. Всё может быть. Можно снять фильм про маньяков, где есть лёгенькая романтизация, и тоже запустить вокруг него движение. Я просматриваю, пролистываю много фильмов наших — ад какой-то. Кажется, авторы открывают врата ада, впускают сюда демоническое, чтобы оно действовало в людях, пугало, вдохновляло на мерзость.
Есть и противоположный подход: разыскивать святость, её разбросанные искры, божественное присутствие. Если с таким подходом делаешь кино, театр, пишешь, оставаясь предельно искренним, то оно прорастёт, как нечто духовное, содержащее свет и любовь. Это духовная практика, что очень важно для христианина. Конечно, я несу ответственность за свои фильмы, искренне считаю, что они меняют мир к лучшему. Молюсь, чтобы божественная воля в них проявлялась. И Бог нам помогает.
Поэтому у вас в фильмах не бывает зла?
Да. У нас нет персонажей — носителей зла. В «Путешествии на солнце и обратно» есть бандиты и так далее, 90-е показаны очень аутентично. Но к каждому персонажу есть сочувствие, сострадание. Нет подонков. Просто люди, человеческое, живое — всё как было. Может, мне так повезло в жизни, я общался в основном с людьми очень глубокими и из разных миров. Криминальные лица, люди с наркотическим опытом — в них было своё человеческое, поиск, духовность и душевность. Очень важно это раскрывать, с другой стороны смотреть на мир, видеть в людях искры святости. Каждый человек может завтра раскаяться и стать святым — это то, что мы видим в Евангелии: разбойник на кресте покаялся — всё.
Не представляю, если бы снял фильм, где есть физическое воплощение зла… Как бы я жил тогда в этой жизни? Как бы я каялся? Это страшнее греховного поступка. Искреннее раскаяние грех убирает, а кино ты не уберёшь, оно остаётся в веках. Оно может вдохновить людей через 50 лет на что-то страшное. Может вдохновить на любовь, раскрыть чувства в людях. Совершить грех на экране — оправдываемый, жуткий — хуже совершения греха в реальности, потому что кино отправляется в вечность. Как автор, можешь раскаяться, но фильмы будут действовать без тебя, ты уже не властен над ними. Они живут как живые организмы, страшные, благостные. Поэтому и стремлюсь, чтобы мои фильмы были благостными сущностями, которые трогают людей и приводят к Господу.
Но ведь в криминальных сюжетах персонаж всё равно проходит искупление, его карают за грех.
Не всегда так. Скорее, это формальная мера. Героя наказали, но ты всё равно проникаешься его миром, принимаешь его. Зависит от автора и авторского ощущения реальности, оно просачивается через экран. Если автор видит мир как мерзость, ощущение будет передаваться зрителю. Если он ищет святости — она будет передаваться зрителю. Очень пафосно, конечно, звучит, но не боюсь об этом говорить.
А можем немного отмотать назад? Вы говорите про минималистичность, но при этом ваше кино феноменально избыточно. Как свет работает в «Жар-птице»? Он же проявляет ауры персонажей, позволяет невидимому проступать. Чисто на уровне восприятия — это довольно избыточный опыт.
Не совсем избыточный. Свет присутствует здесь как персонаж, ещё один актёр. Кто сыграет Жар-птицу? Свет и сыграет. Свет и есть Жар-птица, которая присутствует, подглядывает за героями. Не сказал бы, что это избыточность.
Избыточность не в плохом, скорее в хорошем, наверное, феноменологическом смысле. Это не про чрезмерность, излишность, наоборот, именно избыточность до тебя дотрагивается.
Может быть, да. Но мы вынуждены были работать минималистичным образом, понимаю, что по-другому не мог. Такое детство, такая юность. И подход к «науке» был таким. Действительно, вы спрашивали про 2001 год, тогда был момент отбрасывания лишнего и полного сосредоточения на конкретных интересах. Дальше так и пошло. Следуя этому методу, получается делать все фильмы практически без денег. Мы почти не допускаем ошибок. У нас есть очень чёткое понимание, видение, чего мы хотим. Актёры работают, практически все, бесплатно. И в итоге мы сняли семь фильмов, потратив на них меньше, чем Минкульт выделяет на дебют.

Обалдеть.
Да. Мы запустили реальный кинодвиж в стране, подав пример. Для этого необходима своя строгая эстетическая система, понимание, что надо и не надо, и отбрасывание лишнего. Не представляю, например, как использовать компьютерную графику, спецэффекты — это пошлость. Минимализм никогда не бывает пошлым. Ни-ког-да. Пошлость идёт от избыточности, переливания через край. Надо минималистично доносить смысл, фразу, текст, тогда не будет пошлости.
В театре декорации казались мне хламом, помехой для пространства, отвлечением от работы актёра, слушания прекрасной музыки. Скептически отношусь к диванам, кроватям на сцене, созданию обыденной жизни с помощью предметов, столов, стульев — всего этого множественного. Если можно сделать минималистично, надо делать! Тогда фокус будет на актёрском существовании, а захламление сцены очень мешает. Эти же принципы мы переносили в кино.
Опять же, триумфом для нас стало «Путешествие на солнце и обратно». Как можно снять независимый сериал? Сделать полный метр и так очень-очень сложно. Многие снимают, но не получается. А сделать независимый сериал за свои деньги, без конвейерного продакшена — почти невозможно. Мой друг дал денег. Участвовало человек триста. И там сложился гигантский мир, но всё делалось минималистичными средствами. В основе сюжета — «Дождись лета и посмотри, что будет», моя книжка про любовь к 1990-м. Это мелодрама на фоне бандитских 90-х и тяжёлой жизни. Семь серий — большая дистанция для нас и самая сложная работа.
А за научную фантастику не хотите взяться когда-нибудь?
Нет, никогда. Отрицаю фантастику — это одно из положений моего эстетического восприятия. Фантастикой никогда не интересовался. Её ещё называют метафизическим реализмом, но в фантастике нет ответственности, а в метафизическом реализме она в каждом слове. Всё сказанное связано с глубиной. В фантастике ты фантазируешь, что хочешь, придумывая любых персонажей и вселенные — это всё далеко от человеческого. Нет, я держусь человеческого.
Даже в детстве фантастические книги мне казались предельно скучными по сравнению с Библией, которую читал очень-очень много. Библия, Новый Завет — меры моего понимания.
В «Надо снимать фильмы о любви» вы упоминаете каббалистическую концепцию тиккуна — приведения мира в гармонию. В вашем кино и правда существует своя гармония, но при соприкосновении с ним, наоборот, выходишь из равновесия, привычки. Стремитесь ли вы вывести зрителя из равновесия, чтобы дать ему абсолютно новый опыт или передать откровение?
Никогда не забочусь о воздействии на зрителя. На мой взгляд, это неуважение. Должна быть абсолютная свобода восприятия, какая только возможна. Стремлюсь к предельной честности, истинности, своему вовлечению. Если со скепсисом относиться к тому, что происходит и проживается, то чаще всего ничего и не получается. Вот в «Надо снимать фильмы о любви» получилось всё: очень простое, но крайне глубинное высказывание.
Поделитесь, в чём его суть?
Есть конфликт. Он может проявляться на разных уровнях — вплоть до войны, разрушения куска Вселенной. Есть противоборствующие стороны, люди с разными картинами мира. Им невозможно прийти к примирению. Но на самом деле конфликты решаются спонтанно, диковинными формами и без откатов назад, психоанализа и поиска причин. Непросто донести эту мысль с помощью кинематографа, но вот в «Надо снимать фильмы о любви», кажется, нам это удалось. Есть конфликт актёра и режиссёра, и они не садятся вместе, не разбирают, кто прав, кто первый кого послал, кто что должен был сделать, — фильм не про это. В нём мир рассыпается вплоть до последних секунд, а потом: щёлк, и кино готово! Вот так просто. Это и есть решение конфликта, и его спонтанность здесь показана предельно точно. Доволен этим фильмом. Он предельно лёгок для восприятия, но в нём есть глубокая концепция.
Обалдел, как его воспринимают зрители, включая экспертов. Эксперты не понимают, это документалка или игровой фильм? Потрясающе! Конечно, очень льстит. Недавно продюсер меня серьёзно спрашивала, был ли конфликт с Марком на самом деле или не было. Удивительный момент, правда? Мы очень крутые актёры, значит, раз никто не может ничего понять. (Смеётся.)
Представляете, по щелчку случилась новая сборка Вселенной. Всё, фильм снят. Секунда, и оно получилось. Так и случается в жизни: что-то живое создаётся спонтанно. И конфликты решаются.

В «Отпуске в октябре» есть мысль, что работа актёра — сопротивление собственной природе. А вы, как сценарист, режиссёр, актёр, чему противостоите и сопротивляетесь?
Это фраза Маши Мацель как актрисы. Для меня всё устроено не совсем так. Актёрство — проживание, настоящее и естественное. В сцене с Марком на крыше я по-настоящему плачу. До её съёмок мы с Марком несколько часов не общались. Глядели друг на друга волчками. Потом устроили разборку, и я плакал, всё пережил. Марк мне сказал тогда: «Рома, тебе нельзя быть актёром. Ты в этом живёшь, тебе не хватит психики, рехнёшься». Но ведь всё сложилось и получилось. Это не противостояние чему-то, не ситуация, не кусок жизни, не предлагаемые обстоятельства, а именно проживание истории. Тогда произошло подлинное понимание, что на мне лежит гигантская ответственность, мой фильм рассыпался — это полная труба, — и мне стыдно перед молодёжью, что я не вывез всего этого.
А как у вас произошёл переход на рефлексию о кино? Вы создаёте закрученные метанарративы.
Очень просто. Пишу и снимаю о том, что думаю. Есть темы, которые меня заботят. На данный момент кинопроизводство заботит. Нельзя сказать, что мы полностью перешли в метанарратив, у нас очень разнообразное кино, и темы разные, касающиеся жизни. Просто они объединены одной эстетикой, что вполне естественно: когда изучаешь кино, то снимаешь кино про кино.
У вас, кстати, нет присущей современной культуре ностальгии. Вы выстраиваете безвременное пространство, которое одномоментно происходит везде, тогда, сейчас и потом. Но ностальгии нет. Даже в сценах-пастишах на советское кино в «Отпуске в октябре» не чувствуется тяги назад. Хочется это как-то концептуализировать.
Это связано с моим восприятием времени. Существую не здесь и сейчас, а вообще. Детское, юношеское восприятие, нынешнее восприятие слиты воедино.
Должно быть, сложно технически воплотить это ощущение. Не могу раскусить ваш фокус. Временные пласты у вас не выстраиваются в ряд, а сосуществуют в потоке. Это интересно. Слушайте, а вот есть же идея о бессознательности творчества. Художник рисует, в какой-то момент отпускает руку, и изображение готово. А как вы понимаете, что пора заканчивать?
Интуитивно понимаешь, где должна быть точка. Я не перфекционист, в отличие от Лёши.
Слышала как раз за кулисами, что перед премьерными показами команда что-то меняла в «Жар-птице».
Да-да. (Улыбается.) Когда есть высказывание, очень важно вовремя отпустить, выйти, не дать ему завладеть тобой, иначе заблудишься. Могут быть недостатки, не буду их оттачивать. Если есть жизненность, движение — чаще всего этого достаточно, надо двигаться дальше.
А часто переснимаете сцены?
Иногда делаем 15 дублей, добиваясь естественности. Порой хватает два-три. С первого раза тоже что-то получается, но редко. Если чувствую, что актёры не живут и выходит подделка, — это самое страшное. Переделываем, добиваемся.
Практически в каждом проекте у нас есть сцены, для которых мы входим в транс, делаем очень много дублей, чтобы точную суть схватить. В общей сборке никто не догадается, сколько на самом деле раз мы переснимали. Вот в «Надо снимать фильмы о любви», вы же помните? На две сцены мы потратили 15-17 дублей, а что это за сцены? Ладно, не буду говорить. И в «Жар-птице» есть сцена с огромным количеством дублей, что это за сцена? Вряд ли кто-то угадает.
Предфинальная сцена «Жар-птицы» — это нечто.
Такие сцены как раз не могут сниматься с большим количеством дублей.

А как вы на съёмочной площадке достигаете транса — диалогом, открытостью?
Да, предельной открытостью, своей и командной вовлечённостью, созданием общей атмосферы добра. Мы молимся вместе. В Варанаси второй год подряд были молебны. Мы приходим к методу коллективной молитвы и выражению этой молитвы в кино, и у нас действительно получается. Всё связано с верой, без неё очень сложно. Если бы цинично относился к производству кино, не работало бы ни-че-го. Каждый кадр был бы другим абсолютно, с иным оттенком. Оттенки бы собирались в какую-то густоту и со временем, скажем, на 40-й минуте, стало бы невозможно смотреть. Часто бывает, включаю фильм, сериал, вроде всё грамотно сделано, да? Но лёгкие-лёгкие оттенки интонации, которые слегка присутствуют, собираются в ком, становится невозможно — выключаешь.
А в каком кино находите верную интонацию? Какое кино нравится?
Десятки раз пересматриваю фильмы, которые люблю. Любимые смотрю чаще, чем новые фильмы. Как и переслушиваю старую музыку, а не новую. Почти каждый день смотрю отрывки разного кино. Тот же Тарковский, Годар, советское кино 1960-х. «Два Фёдора» с Василием Шукшиным недавно смотрел. Очень интересно, как они работали с фактурой. Немыслимое производство. Сейчас невозможно представить, сколько нужно потратить, чтобы снять такие кадры.
Пересматриваю разное советское не потому, что оно вдохновляет, скорее, это похоже на подсматривание чужих снов.
Просмотр фильмов — ритуальный процесс, соприкосновение с иной реальностью.
И нельзя сказать, что это сильно нравится и приносит удовольствие.
Вот «Зеркало» Тарковского не знаю, сколько раз пересматривал и сколько буду ещё. Это же очень смелая картина. «Социализм» Годара крайне трудно смотреть — это шиза! Киношиза! Не знаю, почему она так притягивает. Семь, восемь раз смотрел, включаю, пересматриваю заново, потому что происходит общение с пространством. А общение не удовольствие и не развлечение.
Кино не развлекает?
Время кино как развлечения закончилось давно. Кино развлечением и не должно быть. Люди идут на коммерческое кино вместе с семьями. Им надо куда-то пойти, посидеть, поесть попкорн, но исчезновение массового кино никто не заметит. YouTube-ролики, интервью, говорящие головы гораздо более аффективны. TikTok, да? Другие же скорости.
Формат полного метра, большого высказывания — не совсем развлечение. Массовое кино существует за счёт навязывания ритуала похода в кино. Но кино совсем о другом — о глубинном общении не только с авторами, а с реальностью, которая через него просачивается. Большинство фильмов мне не нравятся. Они не вызывают отторжения — просто, вглядываясь в них, что-то происходит. Похоже на разговор со странным, отчасти неприятным соседом, который заходит на кухню поболтать. Так я общаюсь со старым советским кино. Меня в нём возмущают многие вещи.

Например?
Из него полностью убрали религиозность. Советский человек не религиозен. Как будто этого аспекта существования нет. Метафизичность человека заменена светской этикой. Всё мистическое убрано. Советский человек стерилизован. При этом в его лице, движениях, во всём видится стремление «туда». Но на этом «там» лежит запрет. Нельзя этой темы коснуться. А вот Тарковский касается. Беззвучно касается, проваливается в метафизику — всё! «Зеркало»! Он же сам говорил, что это религиозный фильм. Так оно и есть. «Сталкер» — религиозный фильм. Так оно и есть. «Андрей Рублёв» — открытый религиозный фильм.
В целом в советском кино есть ощущение стремления. Абсолютно живые, глубинные персонажи, но им двери закрыты. Это, конечно, вызывает во мне протест. И всё же вся эта внутренняя жизнь сохраняется на экране. Это живой организм, ты с ним соприкасаешься. Входишь в это соприкосновение и с ним общаешься. Фильм тебе может не нравиться, вы можете иметь разные точки зрения на реальность, но это живой сосед, который зашёл к тебе домой.
В современном кино редко-редко происходит соприкосновение с жизненностью. На мой взгляд, то, что происходит у нас в кино, — очень плачевно. То, как работает индустрия. Абсолютно бессмысленные проекты. Пересъём советской классики — кто это придумал?
Капитализм.
Это придумали люди, которые не заботятся о человеческом вкусе. Не надо так делать. Вы снимете хуже, вы не понимаете нюансов тех историй.
Сказки — это самое сложное, что есть в нашей культуре.
Психологические романы Достоевского гораздо проще, потому что в сказках за каждым символом стоит осколок универсального мифа, нечто очень глубокое и мистическое. Экранизировать сказку очень-очень тяжело: тебе надо брать, копаться во всём, до глубин доходить. Практически все сказки странные и непонятные. Персонажи, чудо, превращение — за этим стоят пласты человеческого опыта. Нельзя просто так брать сказку и делать с ней то, что делают с ней сейчас в нашей индустрии. Да, возможно, виноват капитализм и то, как существует киноиндустрия.
А как эту ситуацию изменить?
Думаю, если отменить финансирование кино, будет лучше. Останутся фанаты, авторы, которые не могут не снимать. Они наскребут деньги, одолжат, украдут, что угодно сделают. Они будут снимать кино по необходимости из-за внутренней пульсации, они будут высказываться. А эти [денежные] потоки только вредят кино, культуре — всему. Такая вот радикальная точка зрения. У Лёши Родионова ещё более радикальная.
Это очень плачевно, что у нас происходит в киноиндустрии. С другой стороны, мы смотрим на Болливуд, а там ещё хуже. Популярное индийское кино — просто чокнуться. Одно дело, когда они снимают мелодрамы, в них есть особый вкус индийский, но когда боевик, снятый за миллиарды рупий, на грани греха метафизического. На грани порчи нашего бытия. Происходит боль. Не забуду, как однажды смотрел фильм, и у меня слёзы полились от стыда за создателей, за всех, кто смотрит. Это не слёзы умиления или сочувствия, а слёзы от того, что это существует. Будто берётся что-то хрупкое в нашем мире и избивается. Слёзы от несправедливости у меня проступают. (Смеётся.) Не давайте на такие фильмы денег, они ухудшают нашу реальность. (Смеётся.)

Скажите, а как правильно пробуждаться? В онтологическом смысле, что ли. Этот вопрос часто мерцает в ваших фильмах.
Не знаю ответа на этот вопрос. Сны меня обманули. Бывало, во снах возникает подозрение, что пребываю в сновидческой реальности, срабатывает код к пробуждению. Чувствую, что происходит какой-то бред, хватаюсь за это ощущение. (Щелчок.) Занавес сдирается, открываю глаза. Но бывали и сны, в которых не отличить бред от реальности. Всё абсолютно реально. Сейчас мои ощущения «там» не отличаются от моих ощущений «здесь». Сны обманули.
Пробуждение — как выныривание из глубины. Ты всё отпускаешь, и тело выносит на поверхность. Это спонтанная часть человеческого существования — пробуждение, непонимание. Честно признаюсь, не могу этот момент осознать. Где-то десять дней назад нечто произошло. Сидел с близкими людьми, говорил: «Всё это — сон, ужасный сон». (Мотает головой.) Все молчали, а я продолжал: «Ужасный сон, хочу проснуться, проснуться». При этом полностью осознавая, что это не сон. Только через несколько дней всё решилось: всё осталось в прошлом, и прошлое стало сновидческим опытом.
Вопрос пробуждения, может, вообще один из главных для нас, людей. Вопрос абсолютной реальности, подлинной, как мы себя в ней осознаём. Я не могу этого понять. Отчасти мои тексты, творчество пишутся в состоянии транса, это похоже на автоматическое письмо, надиктовки. Со сценариями происходят близкие вещи. Где пробуждение, где не-пробуждение — нет у меня контроля совершенно. К сожалению, так.
Раз нет контроля, значит, есть свобода?
Да, свобода есть. Сейчас пишу дома, закрыто живу, мало с кем общаюсь. Встаю, читаю и пишу. А что будет дальше? Будет текст, или спектакль, или новый фильм, или перформанс — не знаю. Может быть, «Песня джиннов» — последний наш фильм. Может, дальше будут лишь потоки ощущений. Может, напишу, и опера будет. Я её дома поставлю с куклами, буду петь за них разными голосами.