КИНОТВ поговорил с одним из лучших (может быть лучшим) в мире фестивальным директором о Сокурове, Германе, Звягинцеве, Роднянском и о том, почему в России никак не получается создать киносмотр мирового уровня.
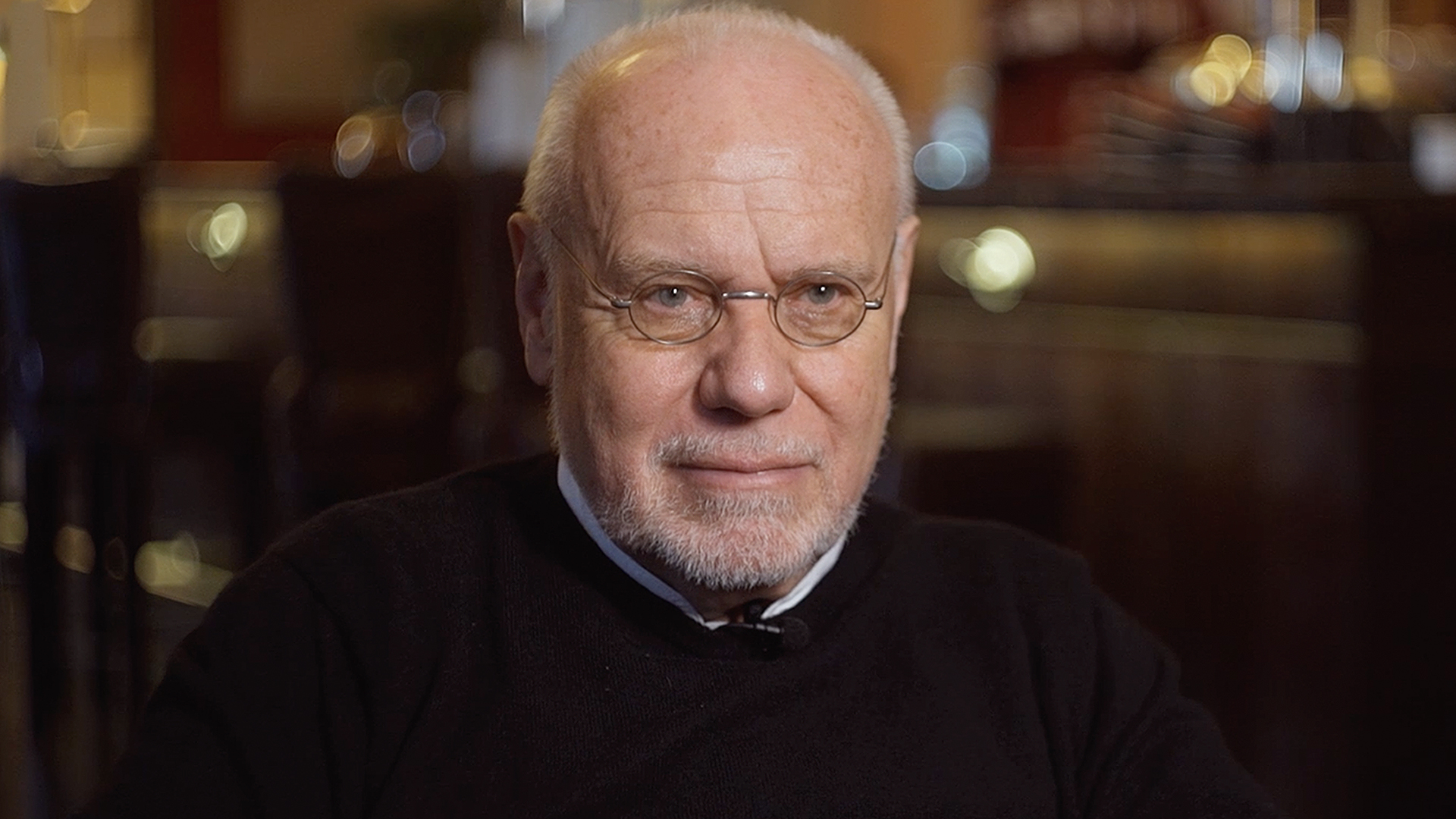
Представьте себе, что приближается конец света, и вы можете спасти только одного человека из каждой страны. Кого из России бы вы спасли, самого важного человека?
В этом случае, боюсь, мне придётся вернуться пусть не к первопроходцам, но к режиссёрам, которые создали собственный стиль и собственный подход. Поэтому я бы выбрал Абрама Роома.
А из современных режиссёров?
Я бы точно выбрал человека, с которым связан очень давно, — Александра Сокурова, потому что я думаю, что он единственный режиссёр, которого я знаю... Вы ведь просите назвать человека, который сейчас жив, — иначе я назвал бы Алексея Германа. Сокуров — единственный современный российский режиссёр, который не прекращает обсуждать свое видение кино и с каждым фильмом делает что-то новое. У него нет окончательного ответа: он снимает фильмы потому, что он ищет ответы. И это очень важно — даже крупные проекты он превращает в лаборатории. Структура его фильмов — это структура мастерских, работающих на него. И на нас, конечно: его фильмы требуют, чтобы зритель дополнил их смысл. Он не хочет давать готовые ответы, он хочет, чтобы зрители сами совершали усилие и добавляли собственную интерпретацию, собственную этическую версию.
Вы имеете в виду, что он самый главный российский режиссёр для вас или вообще?
Для меня он важнейший режиссёр. Я не думаю, что он влиятелен — его идеальное кино такое строгое и ни на что не похожее, что ему невозможно подражать. Хотя у него много студентов, он учитель по меньшей мере двух поколений режиссёров.
Вы открыли миру Андрея Звягинцева — и не только миру, но и России, потому что «Возвращение» — его дебютный фильм. Вы помните свое первое впечатление от этого фильма?
Это было до меня — директором фестиваля тогда был Мориц де Хадельн. Я поддерживал фильмы Звягинцева в Китае, но это отдельная история. Я считаю Звягинцева крупной фигурой в современном российском кино. На мой взгляд, в таких странах, как Китай, его фильмы имеют особое значение, потому что они проговаривают истины, которые китайские режиссёры тоже пытаются... Они не хотят повторять их, но они сами могут пробовать говорить эти истины похожим образом.
Вы упомянули Алексея Германа. После его смерти его сын закончил «Трудно быть богом». Все крупнейшие фестивали хотели получить этот фильм, но его отдали вам на Римский кинофестиваль. Почему?
Я впервые приехал в Ленинград в 1981 году. В Италии был замечательный знаток российского кино, Джанни Буттафава. Он был моим учителем и проводником. Он знал, с кем из кинорежиссёров нужно познакомиться. Он познакомил меня с Алексеем Германом, и с этого всё и началось. Мы боролись... Когда в 1987 году появилась комиссия по конфликтам, я обсуждал с Госкино возможность показа некоторых советских фильмов за рубежом. Скажем так, моя дружба с Алексеем Германом ведёт отсчёт от двух разных точек: в 1981 году мы начали показывать его фильмы, которые были разрешены к показу, а после 1987-го мы стали показывать фильмы, которые наконец были освобождены. Он знал, что мне очень нравятся его фильмы. Для меня он был ещё одним авторитетом, не хочу сказать, что отцом — у него есть сын, замечательный режиссёр. Но фильмы Германа неповторимы.
Фильм был показан вне конкурса потому, что режиссёра уже не было в живых, верно?
Нет, все было по-другому. Кажется, впервые в истории кинофестивалей мы дали награду за вклад в киноискусство посмертно. То есть мы дали ему самую главную награду.
То есть вы считаете, что эта награда важнее главного приза?
Ну конечно, награда за вклад в киноискусство — это всё равно что... В Венеции мы вручаем «Золотого льва». Мы хотели привлечь внимание к фильму. Вы наверняка слышали эту историю: во время пресс-показа в зал попал голубь и в самой напряжённой сцене полетел к экрану. И журналисты почувствовали, что Герман находится рядом. А потом птица улетела — как будто он залетел посмотреть, как принимают фильм. Все, кто вышел с этого первого показа, были переполнены чувствами — и из-за этого, и из-за того, что им повезло увидеть фильм первыми.
Я слышал от Алексея Германа — младшего, что несколько лет назад вам предлагали возглавить один российский фестиваль.
Тогда там были другие люди. Это было в Санкт-Петербурге, я ходил с Алексеем Германом — старшим и Константином Лопушанским на встречу к губернатору. Думаю, ещё возможно, что в этом городе появится платформа, которая соединит Восток и Запад. Здесь это, наверное, будет проще сделать, чем во многих других российских городах, потому что город совершенно поразительный, особенно исторический центр. Он одновременно очень красивый и очень гостеприимный. Может быть, это ещё произойдет, и другие люди организуют этот фестиваль. Я знаю людей, которые пытались организовать тут крупные фестивали — от Кирси Тюккюляйнен до Андрея Плахова. Они экспериментировали с разными способами проводить кинособытия.
Сейчас в России нет по-настоящему крупного кинофестиваля. Даже на Московском международном кинофестивале нет режиссёров первого эшелона, нет интересного конкурса. В чём главная проблема?
Думаю, сильный фестиваль в любой стране может существовать только в том случае, если он может показывать очень сильные фильмы своих режиссёров. Так как у вас есть «Кинотавр», и он очень успешен… У вас много фестивалей российского кино, но «Кинотавр» — единственное место, где можно получить представление о том, что происходит, что меняется, особенно теперь, когда появился конкурс дебютов. К сожалению, «Кинотавр» лишает Московский кинофестиваль возможности показывать по-настоящему живую часть современного российского кино. Возможно, «Кинотавр» должен стать международным — тогда у вас снова будет крупное международное кинособытие.
Благодаря «Кинотавру» в начале этого века в России заговорили о новой волне российских режиссёров — это около 10 человек. Но сейчас они не составляют некую общность, каждый из них — отдельно. Сильный человек, сильный режиссёр, но они не образуют движения, такого как румынская или корейская новая волна. Как вы думаете, почему?
Я сам задаюсь этим вопросом. Единственный ответ, который я нахожу, — в российском кино никогда не было такого явления, как, например, французская новая волна, когда режиссёры объединялись и становились одним племенем. Но в новом российском кино начиная с «Заставы Ильича» была возможность объединиться для вчерашних студентов киноинститутов, ВГИКа. У них был общий опыт, их учили такие люди, как Михаил Ромм. Но потом все они, и здесь можно сравнить Россию и Китай, смогли работать в системе киностудий. Их отправляли на работу в какую-нибудь студию — или они сами туда шли — и они определяли её стиль. Когда я приехал в Петербург в 1981 году, мы стали смотреть фильмы «Ленфильма». Мы сразу почувствовали, что там был свой новый стиль.
Вы говорите о студии Алексея Германа, о его друзьях?
Не только о его студии — ещё и о «Турецком мосте». Чувствовалось, что там скоро произойдёт что-то новое. Только позже, в 1990-м, когда я стал директором Роттердамского фестиваля, я сделал большую программу «Геннадий Шпаликов и ленинградская школа», потому что очень хотел доказать, что наследие нового кино перешло к следующему поколению ленфильмовских режиссёров. В последнее время этого не происходит. Я не вижу преемственности. Мы говорили об учениках Сокурова — я вижу крупные фигуры, которых Саша выбрал, которым помог сделать их первые фильмы, но я вижу очень мало других таких примеров. Знаете, в России тоже есть то, что можно назвать цензурой рынка. В каком-то смысле несколько режиссёров после очень смелого дебюта находятся в нерешительности. Звягинцев здесь исключение, потому что у него экспериментов и смелости становится только больше. Но это можно объяснить тем, что сейчас у него есть поддержка очень сильного продюсера, Александра Роднянского. Роднянский тоже в некотором смысле создаёт школу — настаивает на том, чтобы задействовать новых режиссёров. Он продюсирует много дебютов и вторых картин. Во многом это связано с личностями продюсеров. Я знаю много интересных и смелых продюсеров, но они моложе, и бюджеты, которые они могут найти, конечно, меньше. В этом смысле отношения между режиссёром и продюсером очень поменялись со времён советских студий. Важно то, что, как бы мало денег ни удалось привлечь, у нас всё равно есть 4-5 очень ярких дебютов каждый год. Я уверен, что вы помните картину, которая получила награду за лучший фильм в мой первый год работы на фестивале в Пинъяо, «Сулейман Гора», потому что Лиза Стишова прекрасно подтверждает этот тезис. Небольшой фильм, созданный в тяжелых условиях в Киргизии. У фильма была длинная карьера: он получил награду у нас в прошлом году, потом ещё много наград, крупную награду в Карловых Варах. Режиссёры всё ещё могут делать именно такие фильмы, какие хотят, но им нужно платить за это гораздо более высокую плату.
Мой последний вопрос: многие люди в России всё ещё считают, что фестивали выбирают, а жюри награждают российские фильмы только по политическим мотивам. Поэтому если вы ругаете Россию, то получите приз. Что вы можете на это ответить?
Такое случалось в советское время, потому что если советский человек оказывался в жюри, иногда ему приходилось говорить другим членам жюри: пожалуйста, давайте дадим награду единственному советскому фильму в конкурсе, иначе у меня будут проблемы, когда я вернусь. Но с 1991 года такое не происходит.
Да, сейчас по-другому: многие думают, что если снять фильм, критикующий правительство, европейской общественности он понравится.
Это постоянная проблема с полемическими темами. Тема сразу становится важнее, чем общая художественная ценность фильма. Я думаю, что в этом отношении лучшее свидетельство того, что так происходит не всегда, — это Венеция 2011 года и победа «Фауста», «Золотой лев». Жюри, в котором не было ни одного русского, и они оценили этот фильм. Они посмотрели его один раз и попросили, чтобы им показали его ещё раз, в конце фестиваля, чтобы убедиться. Фильм много требует от зрителя, его можно назвать «трудным», но они почувствовали, что он на голову выше всех остальных. Конечно, можно видеть другой механизм: члены жюри оценивают не художественную ценность, а «взрывной» аспект.










