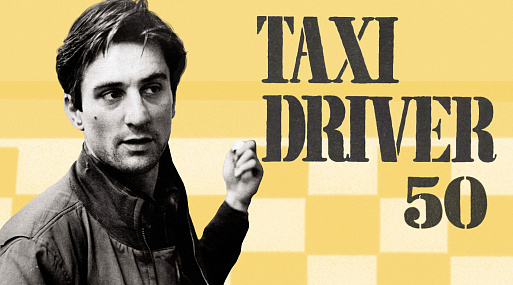1 мая в российских кинотеатрах выходит семейное фэнтези «Легенды наших предков» от создателей фильмов «Далёкие близкие», «Пришелец» и сериала «Юг». По сюжету журналист из Екатеринбурга (Александр Яценко) вместе с дочкой отправляется в дорожное путешествие, чтобы спасти сказочных существ из уральского фольклора. Вадим Богданов поговорил с режиссёром и автором сценария фильма Иваном Сосниным о его любимых сказках, мокрых волосах Нюлэсмурта и о том, как с помощью кинематографа превратить мрак в свет.
Читайте рецензию на фильм «Легенды наших предков», а также смотрите наш репортаж с премьеры.
На каких сказках ты рос? Какая была самой любимой?

Иван Соснин: Я рос на классических сказках: про Буратино, Чиполлино, Волшебника Изумрудного города. Все эти книги сейчас лежат у моей мамы, с рождением дочери мы теперь часто берём их читать и перечитывать. Много было книжек Григория Остера, его страшилки. Я очень много впитывал в себя западной культуры, которая в 1990-е хлынула на российские экраны. Я любил диснеевские мультики, ежедневно смотрел всё, что показывали по телевизору, — «Утиные истории», «Чип и Дейл». А давным-давно, когда вообще был маленьким, бабушка и дедушка читали мне старые-старые русские сказки. Я этого не помню, мне мама рассказала.
И я их сейчас перечитывал, когда к «Легендам» готовился, достал старые бабушкины книжки, понял, что сказки там очень жестокие. Я-то помню всех этих диснеевских Питеров Пэнов, Красавицу и Чудовище, всё красочно и весело, а в бабушкиной книжке медведь попал в капкан, он себе откусил лапу, бабка эту лапу забрала на суп, медвежью кожу она натянула на стул: сидит на нём и варит суп из ноги, а сзади стук по дереву — это медведь своей костью топает по деревянному полу к бабке. Читаю это и думаю: «Жесть!» Вот такое мне читали в детстве.
Иван Соснин: Я рос на классических сказках: про Буратино, Чиполлино, Волшебника Изумрудного города. Все эти книги сейчас лежат у моей мамы, с рождением дочери мы теперь часто берём их читать и перечитывать. Много было книжек Григория Остера, его страшилки. Я очень много впитывал в себя западной культуры, которая в 1990-е хлынула на российские экраны. Я любил диснеевские мультики, ежедневно смотрел всё, что показывали по телевизору, — «Утиные истории», «Чип и Дейл». А давным-давно, когда вообще был маленьким, бабушка и дедушка читали мне старые-старые русские сказки. Я этого не помню, мне мама рассказала. И я их сейчас перечитывал, когда к «Легендам» готовился, достал старые бабушкины книжки, понял, что сказки там очень жестокие. Я-то помню всех этих диснеевских Питеров Пэнов, Красавицу и Чудовище, всё красочно и весело, а в бабушкиной книжке медведь попал в капкан, он себе откусил лапу, бабка эту лапу забрала на суп, медвежью кожу она натянула на стул: сидит на нём и варит суп из ноги, а сзади стук по дереву — это медведь своей костью топает по деревянному полу к бабке. Читаю это и думаю: «Жесть!» Вот такое мне читали в детстве.
С чего для тебя начался путь к фильму «Легенды наших предков»?
Иван Соснин: Всё началось с рождения дочки. Соньке сейчас три с половиной года. И когда она родилась — это, по-моему, было ещё до «Юга» и «Мамонтов», — я гулял с коляской и задумался, что я буду ей показывать. Она же скоро вырастет. «Далёкие близкие» не для неё. Короткометражки не для неё. И я подумал, что классно создать какой-то проект, который можно было бы посмотреть вместе со своей дочкой и который был бы поводом для дискуссии с ребёнком о сказках, о мифических существах, об Урале, о малых народностях. О том, кто ты и откуда. И из-за того, что у меня жена — продюсер, Яна Шмайлова, мы вместе подумали и решили, что это действительно хорошая идея для фильма. Примерно год мы писали сценарий, изучали культуру народов, живущих вокруг Урала. У меня впервые появилось желание делать контент не только для взрослых. Если я обладаю возможностью творить кино, то почему бы не снять что-то познавательное для своей дочки и для других детей.

Как ты думаешь, почему в такой большой мультинациональной стране продолжают переснимать одни и те же сказки и редко обращаются к фольклору малых народов?
Иван Соснин: Это так обидно. Это всё связано с бюджетами, с потенциальными сборами, с прокатом. Когда мы приходили к первым продюсерам с «Легендами» и рассказывали, что вот у нас есть Нюлэсмурт, у нас есть Шишига, нам отвечали одно и то же: «Кто это вообще такие? Давайте назовём их просто Леший и Кикимора». Все хотят что-то массовое, узнаваемое. Поэтому нам было сложно найти средства. В итоге мы сняли фильм только благодаря финансированию Министерства культуры, а до этого мы ходили к продюсерам, и все нам отказывали. Изначально мы вообще ходили к онлайн-кинотеатру. Платформа не взяла. Потом к большой известной продюсерской студии. Там тоже нам говорят, мол, ой, как классно, вы молодцы, что-то интересное придумали, но давайте-ка лучше про Бабу-Ягу сделаем, а это вы потом сами как-нибудь снимете у себя на Урале.
В 2022-м ты говорил, что все свои сценарии пишешь сам, но «Легенды наших предков» ты написал в соавторстве. Расскажи об отличиях сольной и командной работы над сценарием. Почему на этот раз ты не смог обойтись без помощи?
Иван Соснин: Этот сценарий сложнее. Здесь, в первую очередь, мне были нужны соавторы, чтобы изучить тему с разных сторон. В нашей команде, которая писала фильм, есть Лена Ханова. Она живёт в Башкирии, родом из Уфы. И Маша Орлова — она из Магнитогорска. Мы все втроём с Урала, просто из разных мест и разных регионов.
В начале мы стали делиться друг с другом информацией, которой уже обладали: какие сказки в детстве нам читали, какие мифы и легенды мы слышали. Дальше мы распределились и просто пошли штудировать разные источники. И вот этот процесс именно ресёрча был долгим. Мы связывались с историками, с этнографами, с шаманами. Некоторые просили вообще не называть их имён. Говорят, мы вам поможем, расскажем, но, пожалуйста, не пишите нас нигде, мы верим во всё это, не дай бог нас потом поймает Шишига где-нибудь в реке, когда пойдём купаться. Люди реально переживали, боялись, делились какими-то сокровенными вещами с нами.
Фильм, возможно, выглядит на экране как детское кино, но при этом работа над ним была довольно сложная. Гораздо сложнее, чем над теми же «Далёкими близкими», потому что здесь тема гораздо уже, и чтобы найти реальный факт, реальную историю, нужно было хорошенько углубиться. У нас был большой чат, куда мы закидывали все материалы: первые упоминания всех этих легенд, как выглядели герои, фотографии наскальных рисунков, подробности быта предков и так далее. Когда всё это собрали и ещё раз изучили, мы начали писать. Распределились по сценам, героям, накидывали диалоги. Мне в целом комфортно было работать с авторами. И самое главное — это позволило мне параллельно работать с другими проектами, у нас тогда только-только запускался «Юг». Я писал сценарий, потом возвращался на съёмочную площадку и обратно. А девчонки могли пока закрывать дыры, которые у нас там образовывались. И сейчас вот следующий проект мы тоже пишем в такой же компании.

Есть такое мнение, что легенды и поверья на самом деле не забываются, а просто перерождаются в новый жанр — в супергероику. В основе множества комиксов фольклорные сюжеты, а супергерои — это просто реинкарнации богов и героев древних мифов. Что ты думаешь по этому поводу?
Иван Соснин: Я согласен полностью. Просто тут такая штука: у какого бренда сильнее маркетинг, те легенды и выживут. И получается, что если у манси и коми никакого маркетинга нет в этом плане, то их легенды, скорее всего, умрут. В отличие от славянских или западноевропейских легенд, которые будут жить вечно. Это обидно. Раньше ты жил на одной территории, там были свои хранители, у озера был хранитель, у горы был хранитель и так далее. А сейчас глобализация: мифы и легенды становятся комиксами, которые, в свою очередь, принадлежат брендам.
Я не топлю за коренную культуру, за всё аутентичное. Я просто хочу, чтобы это сохранилось. Мне искренне хочется, чтобы это сохранилось хотя бы на каком-то уровне. Когда ты приезжаешь в деревню, а там все знают только Человека-паука и не знают какие-то свои местные мифы и легенды, от этого, конечно, становится грустно. При этом я понимаю, что от этого никуда не уйти. Глобализация гораздо сильнее, чем наши попытки сохранить культуру малых народов. Но главное ведь пытаться. Мы вот в фильме немножко поговорили о трёх персонажах, возможно, кто-то запомнит, расскажет другому. Да и фильм останется всё равно, его можно будет найти в интернете, посмотреть, поэтому хоть немножко таким образом мы продлили жизнь этим фольклорным героям. Вообще, конечно, герои комиксов и современные супергерои всех переживут, но будем стараться хоть что-то им противопоставить.
Ты сказал, что маркетинг решает, но главный герой в фильме — не маркетолог, а журналист…
Иван Соснин: Да, мы сразу решили, что он будет журналистом, потому что он тоже такой сам по себе, как эти мифы и легенды: вроде бы никому не нужный журналист, который пишет для бумажных изданий, чей век тоже уже подходит к концу.
Мы долго размышляли над тем, как у нас кончится фильм. Всё-таки он напишет у нас книгу или, условно, сделает какой-то видеоблог, что-то напечатает через интернет, ведь так информация распространяется гораздо быстрее. Но потом мы подумали, что когда ты держишь книгу в руках и читаешь её перед сном ребёнку, погружение в историю гораздо глубже, чем когда ты пролистаешь тот же текст в интернете. Кроме того, в Сети статья может легко потеряться в потоке информации, а в книге она сохранится хотя бы ещё на одно поколение.
Сериал «Юг» можно рассматривать как своеобразный кастинг актёра на роль отца в твоём новом фильме, победил в котором Александр Яценко. Почему ты выбрал именно его?
Иван Соснин: Я познакомился с Сашей как раз на съёмках «Юга». Хоть у нас было не так много смен с ним, как-то понравилась его органика, как он живёт в кадре. Он как бы ничего не делает, но он настолько органичен, настолько он живой, и когда я уже дописывал сценарий, я начал представлять актёров у себя в голове. Мы, конечно, рассматривали несколько вариантов, но Саша сразу был одним из фаворитов. Когда мы поняли, что он согласен сниматься, мы начали поднимать возраст девочки. У нас изначально в сценарии была прописана девочка 7-8 лет. Потом мы поняли, что Саша довольно взрослый и восьмилетняя девочка в паре с ним будет выглядеть очень наивно. Тогда мы начали повышать возраст девочки, потому что драматургия на том уровне у нас не работала. На пробах увидели, что актрисы в возрасте семи-восьми-девяти лет не подходят: сразу становилось ясно, что ребёнок разговаривает со взрослым человеком. А нужно, чтобы дочь с отцом вели диалог на равных. И вскоре мы нашли Сашу Бабаскину. На пробах сразу почувствовали, что это тот возраст, когда ребёнок перестаёт быть ребёнком и становится взрослым. У Саши с Сашей сразу всё заискрилось. Она давит на него, может накричать, может его разозлить, а он как бы по-отцовски стоит и терпит, поглядывая на неё своими чистыми, грустными голубыми глазами.

Я для себя понял, что Александр Яценко — идеальный экранный отец, после просмотра фильма «Ненормальный» Ильи Маланина. Смотрел ли ты?
Иван Соснин: Да-да, скажу даже больше: мне его предлагали снимать. Но не срослось.
Картина, кстати, в твоём духе — светлое кино про суррогатную семью. Вообще, у тебя очень узнаваемый режиссёрский стиль. Поэтому мой вопрос будет такой: назови три вещи, которые мы никогда не увидим в фильме Ивана Соснина.
Иван Соснин: Знаешь, у меня бывает такое: я говорю, что не люблю снимать сериалы, и мне предлагают сериал. Потом я говорю, что не хочу снимать сказки, и вот я снял сказку. (Смеётся.)
На данный момент я бы не хотел снимать про наркотики. Мне не нравится, когда в кино изображают все эти наркотрипы. Я бы не хотел такое визуализировать. Как минимум потому, что у меня нулевой в этом опыт, я с наркотиками никак не связан, и мне не хочется демонстрировать их употребление в кино. Второе: я не очень люблю откровенные постельные сцены. Если бы я такое снимал, я бы чувствовал дикий дискомфорт от этого. И третье, наверное, я бы не стал снимать всё, что связано с насилием над детьми. Семейный абьюз, похищение детей, маньячные истории и так далее. Мне это самому тяжело смотреть. И из-за того, что у меня ребёнок, я сейчас всё это очень близко к сердцу воспринимаю.
Но, с другой стороны, мне часто говорят: «Ваня, сними вот это, вдруг ты поможешь людям посмотреть на проблему с другой стороны. Почему ты снимаешь всегда доброе? Жизнь же многогранная». Ко мне попадали очень хорошие, действительно крутые сценарии, но очень тяжёлые, жестокие. И когда я читаю их, я понимаю, что ближайшие полгода-год я должен буду провести вот в этой атмосфере. Я, как режиссёр, должен погрузиться в это. Должен поставить себя на место главного героя и пережить эту историю сам. А я человек впечатлительный. У меня мурашки, руки потеют, меня всего трясёт. Когда я начинаю погружаться в социальную драму или какую-то жёсткую триллерную историю, то мне очень сложно потом из неё выбраться. У меня может начаться такая микродепрессия. У меня уже было такое. И я стараюсь всё-таки создавать вещи, в которых мне самому комфортно находиться.

Ты предвосхитил мой следующий вопрос, он касается источников вдохновения. Я читал твои предыдущие интервью и обнаружил там неожиданны имена — Звягинцев, Сигарев, Сокуров, Макдона. Можно ли сказать, что ты как автор намеренно пропускаешь через себя мрак (неважно, речь про тяжёлое эмоциональное кино или что-то из реальной жизни) и превращаешь этот мрак в свет, которым наполняешь свои фильмы?
Иван Соснин: Примерно так и получается. Вот я, например, недавно «Под огнём» посмотрел — мощный фильм: ты выходишь из кинотеатра и оказываешься в другой реальности, как будто ещё несколько часов сидишь с этими ребятами в этом доме. И я люблю такое кино. Люблю кино, которое бьёт по голове. Но здесь я погружаюсь в него на пару часов и потом из этого могу выйти. Так же было на «Левиафане»: на титрах долбит музыка Филипа Гласса, а я сижу и не могу встать с кресла. Через пару дней только вернулся к нормальной жизни. А если самому снимать что-то подобное, это нужно в такой атмосфере вариться полгода-год. Моя психика такое не выдержит.
У меня была попытка написать сценарий про тюрьму. Классный сценарий, классная идея, всем нравится очень. Были платформы, которые согласны запустить проект. А я не смог себя заставить эту историю расписать, потому что я подумал, что не хочу снимать про убийство, про смерть, про насилие. Может быть, я найду выход, как написать это без большого количества насилия, сделать историю не такой жёсткой. Отдавать идею никому не хочется, потому что это мой незакрытый гештальт. Я рос с мамой, и она всё моё детство работала в детской колонии в маленьком провинциальном городе. И когда мама дежурила, я часто был с ней, то есть, по сути, я тоже в этой колонии провёл много времени, пока мама делала обходы, осматривала сидевших там несовершеннолетних детей. Правда, я в это время играл в компьютерные игры в её кабинете. Но на самом деле вся эта детская колония на мне оставила большой отпечаток. Бывало, посреди ночи звонят, говорят, побег. И мы срочно едем туда: моя мама умеет стрелять, она стояла на вышке с автоматом. И я часто возвращаюсь к этим воспоминаниям, есть у меня желание немножко порефлексировать на эту тему. Возможно, однажды я сниму про это фильм.
Что было самым сложным на съёмках «Легенд наших предков»?
Иван Соснин: Наверное, самым сложным были и для меня, и для всей нашей творческой группы костюмы и спецэффекты. Обычно у меня простые бытовые истории, а тут мы полноценно работали над созданием костюмов, и у нас были спецэффекты, которые мы тоже аналоговыми способами пытались сделать. Было тяжело, потому что костюмы всегда у тебя отнимают время от смены. Я привык много работать с актёрами, делать дубли, снимать с разных сторон, а здесь ты понимаешь, что у тебя три часа сначала ушло на грим, потом где-то что-то отклеилось, нужно подклеить. Потом у тебя пошёл дождь, а Нюлэсмурт весь в волосах, и если он промокнет, мы просто не снимем следующие сцены. Все наши съёмки проходили с оглядкой на костюмы.
Художником по гриму у нас была Настя Селиверстова, а художником по костюмам — Маша Орлова, так вот они настоящие героини. У нас был только один костюм Нюлэсмурта, не успели к съёмкам сделать второй, потому что его делать очень долго и сложно: нужно сперва заказать буйволовые волосы из Казахстана, а потом их ещё муторно вплетать. И вот однажды этот наш единственный костюм промок, а у нас завтра с утра смена. Мы жили все на одной турбазе, и я как-то ночью встаю в туалет и вижу, как девчонки там с фенами фигачат этого Нюлэсмурта в три часа ночи. И у них почти каждый день были такие приключения: то подклеивали отпавшие волосы, то сушили их, то чинили каблуки с копытами, которые у нас постоянно ломались. Все 26 смен у нас была непрерывная реставрация костюмов.

Я после просмотра чуток погрузился в мифологию малых народов, нашёл, например, в удмуртском фольклоре существо палэсмурт, которое может защекотать человека насмерть. Есть ли планы делать продолжение «Легенд», вводить новых персонажей, строить франшизу по альтернативному фольклору нашей страны?
Иван Соснин: Я бы очень хотел. Сейчас мы посмотрим, что у нас будет с прокатом. Надеюсь, люди пойдут на фильм. Мы когда начинали писать, сразу подумали, что это классно раскладывается на сериал, где одна серия — это один сказочный персонаж и одна территория. Например, одна серия про Алтай, другая про Якутию. Везде своя мифология, интересно, как мифические существа из разных регионов будут друг с другом общаться, найдут ли общий язык или будут враждовать. Но в итоге от этой идеи отказались, решили, что сделать полный метр будет всё-таки попроще, чем снять целый костюмированный сериал.
Сейчас всё внимание на прокат. Если выступим хорошо, то будем думать о второй части и, может быть, даже о сериале. Сейчас мы готовим сувенирку по фильму: у нас будут пластиковые маленькие Нюлэсмуртики, значки с героями — броши из уральской бронзы. Ещё у нас будет книга. Вот такие у нас первые шажочки навстречу какой-то такой микровселенной легенд наших предков, а что дальше — уже посмотрим.
По поводу шажочков… ты всё увереннее движешься в сторону жанрового кино. При этом в России жанровое кино — это редкость. Речь не про хорошее или плохое, а его в целом мало. Как думаешь, почему так?
Иван Соснин: Мне кажется, проблема в том, что нет классных ярких сценариев. Мне много присылают жанровых сценариев, но, честно говоря, в них мало за что можно зацепиться. Я читаю, читаю, читаю, но в какой-то момент всё просто разваливается. Поэтому всё из-за нехватки хороших сценариев. Когда их нет, то и кино хорошее не получается.
А в каком жанре ты мечтаешь поработать?
Иван Соснин: Я бы хотел податься куда-то в сторону мюзикла, но не типичного, а снять именно музыкальное кино. Я сейчас тоже пишу историю одну, она связана с музыкой, для меня это будет что-то новое. Потом мне в целом интересна научная фантастика и всё, что связано с космосом. Я бы хотел снять своё «Прибытие», свой «Интерстеллар», свою «Луну 2112». Вот это всё я очень люблю. Если вдруг у меня будут ресурсы, возможности, предложения и сильная команда, то я бы хотел снять такое кино.




В фильме звучит «Место для шага вперёд» группы «Кино». Песня не просто задаёт атмосферу, но ещё идеально подходит по смыслу. Как ты подбираешь музыку к своим фильмам? Ведь это тоже целое искусство.
Иван Соснин: Про «Место для шага вперёд» есть интересная история. Когда мы снимали «Юг», в эпизоде, где как раз у нас Саша Яценко вёз Ярика в Казань, герой включает свою магнитолу и говорит: «Россия — это Цой, малой». И звучит песня «Стук». Но на монтаже мы пробовали ставить «Место для шага вперёд». Мне очень нравилась эта песня. Но всё-таки потом решили, что «Стук» здесь больше подходит и по темпоритму, и по смыслу. И вот, видимо, образ Яценко в машине под песню «Место для шага вперёд» настолько у меня в памяти отпечатался, что хотя бы здесь я решил попробовать воссоздать то, что у меня не получилось в «Юге».
А что касается вообще всего саундтрека, это треки, которые мне лично нравятся. Я их слушаю дома, в быту — тех же Beautiful Boys, которые играют на титрах. Мне важно было взять ещё что-то уральское. Поэтому у нас звучат «Чайф», представители старого уральского рока, и «Сова», молодая современная уральская группа. Это чтобы подчеркнуть, что у нас фильм всё-таки про объединение поколений.
Понравилась фраза «Чем больше сидишь в болоте, тем меньше из него хочется выходить». Её посыл понятен: побудить человека перестать откладывать жизнь на завтра. Но веришь ли ты, что кино в принципе способно менять людей, вывести их из зоны комфорта?
Иван Соснин: Верю. Понятное дело, что это не так работает, что человек в моменте всё поменяет. Я верю в накопительный эффект, когда постепенно что-то в голове щёлкнет, и ты что-то поменяешь. Когда я снимал короткометражки про Иванов, они доходили до большого количества людей, потому что хорошо распространялись в интернете — у них там по два, по пять миллионов просмотров. И приходил реальный фидбек. Знаешь, что меня больше всего впечатлило? У нас был фильм «Портрет мамы». История, как девочка забирает мальчика из детдома, потому что тому не с кем праздновать Новый год.
И вот, не знаю, правда это или нет, но потом через какое-то время я увидел то ли статью, то ли комментарий на YouTube со словами: «Ребят, после просмотра фильма я подал документы на усыновление ребёнка из детского дома». И я после такого думаю: блин, жесть, я там какое-то маленькое кино снял, всего три смены, а у человека, может быть, вся жизнь поменялась. И не только у него, ещё и жизнь ребёнка. После этого я начал думать, что на мне, как на режиссёре, лежит какая-то ответственность. Те посылы, которые я несу, они могут так или иначе влиять на людей. И я думаю, что, конечно, лучше стараться менять жизнь людей хотя бы чуть-чуть в лучшую сторону, если это возможно.
А, и ещё был фильм «Интервью», где у нас девочка ищет отца. Марина Васильева приезжает к Алексею Серебрякову. Тоже достаточно громкий проект, много где был показан, по фестивалям покатался. И у меня знакомый из Екатеринбурга, посмотрев фильм, поехал искать своего отца, с которым он не виделся 20 лет. И нашёл. Потом он написал большую колонку о том, как это было и как мой фильм сподвиг его к этому действию. А я уже с тех пор несколько других фильмов снял, тот для меня уже прошёл, и вдруг я читаю всё это, и меня это поражает и даже немного пугает. Оказывается, кино вот так может работать. Поэтому, отвечая на заданный вопрос: да, я верю, что кино может менять жизни людей — хотя бы маленькими поступками.