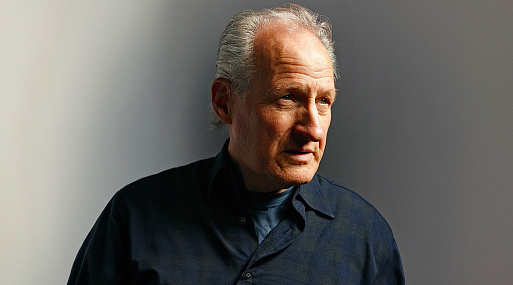В мировой прокат выходит «28 лет спустя» — продолжение кинофраншизы режиссёра Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда. Проследив метаморфозы и характерные черты зомби-хоррора с момента выхода первой части, Олеся Новикова создаёт типологию жанра и рассказывает, как зомби отменили смерть.
Фигура зомби на экране прошла долгий путь — от символа социального подчинения до вестника апокалипсиса. За почти сто лет своего существования термин оброс множеством значений, становясь инструментом манипуляций в руках писателей, кинематографистов, создателей видеоигр. Удивительная гибкость персонажа позволила ему прижиться как в реалиях индустриального общества, так и в ландшафтах цифровой эпохи. Он с лёгкостью адаптировался к любой культурной среде, отражая различные коллективные фобии и идеологические сдвиги своего времени.
Зомби прочно заняли свою нишу в массовой культуре, не имея ни чёткого определения, ни универсальной логики существования. Формально под концепцию «живого мертвеца» попадает целый ряд существ, а сами авторы нередко избегают прямого упоминания зомби. И всё же сегодняшний зритель интуитивно узнаёт его в мутировавших, одержимых, плотоядных особях человеческого вида. Так каков этот образ в контексте современного хоррора и в чём секрет его живучести?
Раб, потребитель, носитель вируса: социальные маски зомби

Являясь то ли искажённым «нзамби» («мелкое божество» или «душа мертвеца» на языке банту), то ли производным от «жамби» («привидение» на западноафриканском диалекте), зомби с самого начала были связаны с магией вуду и страхом утраты контроля над собственной жизнью. Фильм Виктора Гэльперина «Белый зомби» (1932), продолжающий традицию нежити на экране — «Дракулы» (1931) Тода Браунинга и «Франкенштейна» (1931) Джеймса Уэйла, — вдохновился книгой Уильяма Сибрука «Остров магии» (1929), где были описаны оккультные ритуалы зомбирования людей. Зомби здесь — не чудовища, а жертвы колониализма, лишённые воли и разума рабы, вынужденные трудиться на плантациях белого господина в исполнении Белы Лугоши. Успех картины породил волну фильмов категории В о жрецах вуду, фактически превращающих чёрных мужчин и белых женщин в живых мертвецов.
Однако уже к середине XX века магия была вытеснена наукой. Из мистической фигуры зомби превратился в продукт человеческих ошибок — войн, техногенных катастроф, научных экспериментов. Кульминацией этого перехода стала «Ночь живых мертвецов» (1968) Джорджа Ромеро — фильм, полностью пересобравший зомби-миф. Доморощенный апокалипсис, вызванный радиацией вернувшегося с Венеры космического аппарата, представил образ зомби уже в знакомом нам обличии — агрессивной плотоядной нежити. Ромеровская кинофраншиза о живых мертвецах, породившая ещё пять фильмов, неизменно отражала проблемы американского общества — расизм, культуру потребления, эскалацию бедности, военные конфликты и многое другое, — сделав зомби предельно политизированной фигурой.
И хотя «Ночь» Ромеро по праву считается отправной точкой современного зомби-хоррора, её идеи не были универсальными и уже не попадали в нерв нового времени. Эпоха постгуманизма, эпидемиологической тревоги и технологической повсеместности требовала кардинального переосмысления образа зомби. Эту задачу взял на себя Дэнни Бойл, вдохнув жизнь в, казалось бы, отслуживший свой срок жанр. «28 дней спустя» (2002) канонизировал образ зомби нового тысячелетия — быстрого, энергичного, одержимого носителя вируса.
Время выживать: как «28 дней спустя» изменил зомби-хоррорТелесность как симптом XXI века

Протезирование, инъекции, косметология, фитнес, пластическая хирургия, фильтры — никогда прежде человек не обладал таким арсеналом средств для управления собственной внешностью и поддержания иллюзии вечной молодости. Но вместе с возможностями растёт и давление: социальные сети навязывают стандарты красоты, и мы оказываемся втянуты в вечную гонку за идеалом и социальным одобрением. Ажиотаж вокруг «Субстанции» в 2024-м лишь подтвердил, насколько остро современное общество переживает тему телесной трансформации.
Начиная с 1980-х, на волне растущей популярности слэшеров, зомби-кино всё больше превращалось в зрелищный аттракцион, постепенно смещая фокус с социальных подтекстов на визуальный экстрим и кровавую эффектность. В 1990-х этот вектор довели до абсурда трэш-хорроры с элементами чёрной комедии вроде «Живой мертвечины», которые начали буквально испытывать пределы допустимого в рамках жанра. Фильм Джексона стал феерией телесного распада: размозжённые головы, вытекающие органы, слезающая кожа — всё это превратило ленту в тошнотворную энциклопедию физиологических извращений и изощрённых способов борьбы с нежитью.

В 2000-е режиссёры подхватили эту тенденцию, вернув зрителю архетипический страх физической уязвимости. Совершенствование грима и развитие VFX способствовали более детализированной проработке человеческих мутаций — чего только стоит вселенная «Ходячих мертвецов» (2010–). Но акцент на телесности уже не сопровождался реками крови и упоением бессмысленной жестокостью, а фиксировал ужас перед необратимыми метаморфозами. Зомби-кино органично вписалось в эстетику боди-хоррора — направления, сосредоточенного на трансформациях и распаде человеческого тела. В южнокорейском «Поезде в Пусан» (2016) или сериале «Мы все мертвы» (2022) камера запечатлевает момент заражения с неумолимой физиологической достоверностью: судороги, выворачивания суставов, хруст костей, искажённая мимика. Герои успевают осознать, что их тело больше им не принадлежит, но сделать ничего не могут, и эти проведённые в агонии минуты по-настоящему чудовищны.
Трагедия зомби-вируса заключается ещё и в разрыве между личностным и телесным — он на глазах превращает родного человека в агрессивного чужого. Тело, движимое яростью и инстинктом, ещё сохранило узнаваемые черты, но полностью утратило сознание, память и человечность. Герои стоят перед невозможным выбором: убить того, с кем ещё недавно они взаимодействовали, или быть заражённым. Эта дилемма проигрывается в «28 недель спустя» (2007), где дети оказываются лицом к лицу со своими инфицированными родителями.
Постгуманизм, или новая ветвь эволюции

Современное зомби-кино почти всегда разворачивается в обстоятельствах постапокалипсиса, где агрессивный вирус практически уничтожил человеческую цивилизацию. Однако, вопреки угнетающей атмосфере, эти фильмы не всегда настроены пессимистично — напротив, всё чаще они предлагают альтернативу: что, если это вовсе не конец, а новое начало?
На заре нынешнего столетия мир в страхе обсуждал вероятность глобальной пандемии: эксперты предсказывали, что человечество не готово к настоящей эпидемии, а бесконтрольное употребление антибиотиков приведёт к устойчивым мутациям. Кино отражало эту тревогу, рисуя мрачные сценарии вымирания. Но начиная со второй половины 2000-х наметился поворот: отчаяние уступает место поиску выхода, сопротивлению и надежде. Герои всё чаще оказываются носителями иммунитета или ключом к спасению — как в фильмах «28 недель спустя» (2007), «Я — легенда» (2007), «Война миров Z» (2013).

Зомби-хоррор XXI века активно размывает границу между живыми и мёртвыми. Люди теряют в себе человеческое, подчиняются инстинктам и уподобляются бездушной массе. Вспомним военных из «28 дней спустя», представляющих не меньшую угрозу, чем скопище инфицированных. Зомби же, напротив, начинают обретать черты субъектности. В 2013 году выходит «Тепло наших тел» Джонатана Левина — мелодраматический хоррор, в котором зомби оказываются в переходном состоянии и имеют потенциал на полное восстановление к прежней жизни. У героя Николаса Холта есть внутренний голос, остатки сознания и способность к воспоминаниям. Через связь с живым человеком зомби начинает эволюционировать в сторону нового типа чувствующего существа.
Похожую идею развивает ирландский фильм «Третья волна зомби» (2017), где излечившиеся от вируса инфицированные сталкиваются с неприятием общества, стигматизацией и моральными последствиями своих зверств во время болезни. Их память сохранилась, и теперь они испытывают чувство вины, но общество не спешит их принимать. Зомби в этой истории — это уже не угроза, а новое меньшинство, жертвы и носители травмы, которые больше не вписываются в прежний человеческий порядок.

Адаптироваться и признать их как часть новой реальности — важный зомби-нарратив последних лет. Одна из самых концептуально смелых картин в жанре зомби-хоррора — «Новая эра Z» (2016) Колма Маккарти. Второе поколение заражённых — дети, рождённые из утроб инфицированных вирусом грибка матерей — демонстрирует высокий интеллект, способность к обучению и эмпатии, хоть и имеет плотоядные импульсы. Они уже не просто носители вируса, а гибридная форма жизни, эволюционно приспособленная к новому миру. Для военных и учёных они — ключ к спасительной вакцине, поэтому их держат в изоляции в специальном бункере. Но, как бы ни пыталось человечество остановить эпидемию, ему придётся признать: старая цивилизация исчезла, и на её месте появится новая, населённая иным биологическим видом. Мир больше не принадлежит человеку — и это не трагедия, а неизбежная смена порядка.
Схожую идею развивает и сериал The Last of Us (2023), где заражённые — часть новой экосистемы, управляемой сетью грибницы, объединяющей их в единый организм. Их «жизнь» чужда человеческой цивилизации, но логична в контексте природы. И хотя выжившие в пандемии по-прежнему пытаются создать вакцину, отказываясь быть поражёнными грибковой инфекцией, часто наибольшую угрозу для них представляют не заражённые, а правительство. Чтобы выжить в изменившемся мире, уже недостаточно сохранить человечность в привычном смысле слова. Напротив, становится очевидным: само определение «человека» требует пересмотра.
Зомби отменили смерть

На самом деле любые попытки проследить линейную эволюцию образа зомби в поп-культуре практически обречены на провал. Этот вид хоть и отражает коллективные страхи эпох и развитие жанра хоррора в целом, ускользает от строгой типологии. Каждая наметившаяся тенденция — будь то ускорение, индивидуализация или очеловечивание зомби — неизбежно сопровождается рядом исключений. Тем не менее можно уловить одну сквозную черту, которая объединяет почти все зомби-нарративы, — стремление к бессмертию. Или, точнее, невозможность умереть окончательно.
Если в философии вампиров та же самая перспектива окрашена в романтические, почти эротические тона, то в зомби-мифологии она вызывает чистый, физиологический ужас. Тогда как в классическом хорроре страх традиционно связан с конечностью, угрозой гибели и исчезновения — фильмы о живых мертвецах пугают обратным. Что может быть мучительнее, чем бесконечное блуждание в поисках живой плоти по руинам некогда знакомого мира в виде разлагающегося, гниющего тела, лишённого воли, памяти и идентичности? В этом контексте быть испепелённым выжившими (если таковые, конечно, ещё остались) представляется почти актом милосердия. Собственно, благодаря своей пугающей живучести, нерациональности и отвратительной наружности зомби как образ оказался куда более устойчивым для жанра ужасов, чем вампир. Любопытно, что даже «Я — легенда» Фрэнсиса Лоуренса, снятый по роману о вампироподобных упырях, был воспринят и укоренился в памяти как фильм о зомби-апокалипсисе (хоть там фактически и нет зомби).

Именно в этом аспекте — отказе от финальности — зомби оказались созвучны современному массовому кино. Франшизы, как и их герои, тоже отказываются умирать. Они возвращаются снова и снова: Джон Уик, Итан Хант, герои супергеройских киновселенных, которым всегда остаётся ещё один бой, ещё одна миссия, ещё одна глава. Блокбастеры живут по логике зомби: они бесконечно воспроизводимы, неубиваемы и порой движутся по инерции. В 2004 году Эдгар Райт блестяще высмеял этот парадокс в «Зомби по имени Шон», где, кажется, не осознавшие своего положения зомби вынуждены заниматься привычной человеческой рутиной.
«Зомби по имени Шон»: не произноси слово на букву «з»Особенно волнующе в этом отношении возвращение одной из главных зомби-франшиз XXI века. В 2025 году «28 лет спустя» продолжит историю, начатую Дэнни Бойлом и Алексом Гарлендом в 2002-м. Создатели сами вернулись к своему детищу и планируют ещё несколько фильмов. Будет ли это искусственное продление посмертного существования или же им удастся вдохнуть новую жизнь в ожившую мертвечину? Одно можно сказать точно: в 2020-х смерть — дело временное.