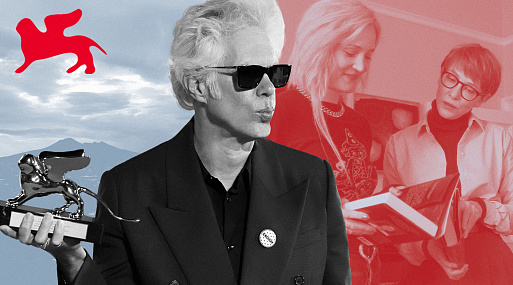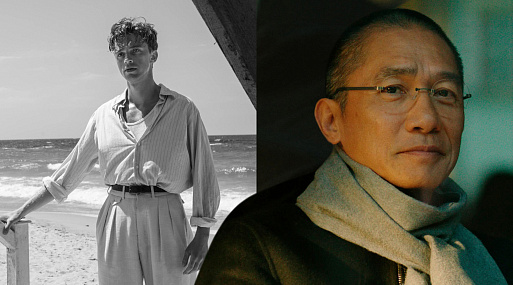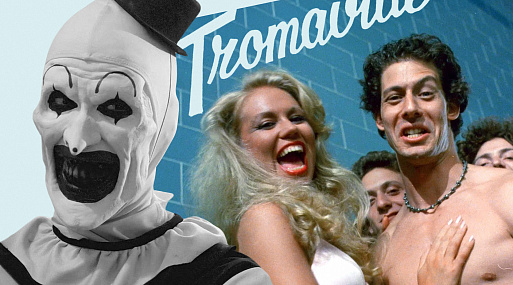С 11 сентября кинокомпания «Иноекино» в честь 50-летнего юбилея «Пролетая над гнездом кукушки» выпускает в российский прокат отреставрированную 4K-версию шедевра Милоша Формана. Экранизация одноимённого романа Кена Кизи удостоилась Большой пятёрки «Оскаров», открыла зрителям Кристофера Ллойда и Денни ДеВито, резюмировала реформаторские 1960-е и стала неустаревающим гимном свободе. Карина Назарова рассказывает, как и в какое время создавался фильм и почему он до сих остаётся актуальным.
1960-е. Смутьян Рэндл Патрик Макмёрфи (Джек Николсон) после дебоша в трудовой тюремной колонии, десятка обвинений в разбое и нападении оказался в психиатрической лечебнице. Врачи ломают голову, измеряя уровень его нормальности. Он ведь на психа не похож вовсе — обычный разгильдяй, тунеядец, несдержанный мужчина, типичный завсегдатай баров. Со справочниками по психотерапии, трудами Юнга и Фрейда его не расшифровать. Впрочем, решать судьбу Макмёрфи будут не врачи, а окружающие его подавленные пациенты клиники и властвующая над ними хладнокровная старшая медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер).
Женщина со стальным лицом и немигающим механическим взглядом, как хищная птица, клюет по зёрнышку от здравомыслия подопечных. Путая благие намерения с откровенным садизмом, она усердно напоминает пациентам об их душевных недугах и травмах, нанесённых матерями, жёнами и репрессивным социумом, подавляет их эмоциональный пыл и ограничивает движения тела. Макмёрфи не поддаётся жёсткой цензуре и диктату. Назло несгибаемой Рэтчед он гнёт во все стороны свою улыбку, вздымает вверх руки, пританцовывает, идя по коридору. Широкоплечий бунтарь берёт прибитых к холодному гнезду постояльцев отделения под своё расправленное крыло — поближе к горячему сердцу — и уносит в полёт, пробуждая в них и в нас волю к свободе.
В конце 1950-х Кен Кизи, 22-летний студент Стэнфорда, участвовал в экспериментальной программе ЦРУ — тестировал на себе действие галлюциногенов — и подрабатывал ночным санитаром в психиатрической лечебнице неподалёку от Пало-Альто. Два параллельно идущих опыта скрестились в его дебютном романе «Пролетая над гнездом кукушки», чьи герои — пациенты Мартини, Чесвик, Биббит, Хардинг, Тэйбер и медсестра Рэтчед — были списаны с реальных постояльцев и служащих клиники.
Кизи был адвокатом психоделического движения, которое, по его мнению, вырывалю людей из «духовного тупика» к чему-то «чистому, честному, ранее не существовавшему». Его роман, по идее, предлагает без лишней химии и вреда для здоровья соприкоснуться с инобытием чужого сознания. В книге история разворачивается с перспективы верзилы Вождя, индейца Бромдена, чей взгляд покрыт пеленой пессимизма, воспоминаний об участии во Второй мировой, отце и прошлой жизни. Фигурой рассказчика Кизи уже высказывает свой протест системе и политике исключения — дело ведь не только в неугодных социуму «шизиках», но и в развязываемых государствами войнах, гонениях народов, расизме и колониализме. Неслучайно рассказчиком становится именно индеец, берущий с собой в роман всю предысторию и богатую духовную культуру народа, лишённого дома и права на нормальность.
Наблюдая за жизнью диспансера, Кизи не верил в безумие тамошних постояльцев, напротив, видел в них изгнанных отщепенцев общества, сломленных государством людей и обывателей, разве что с чуть более ярко выраженной необыкновенностью. Эмпатия писателя передаётся описаниям Вождя, задевающим суть каждого из персонажей и полным тактильных метафор. Санитары и главная медсестра предстают тоталитарной машиной, перемалывающей пациентов в безвольную и безжизненную массу. Понурая лечебница на страницах кажется колюче-угловатой, холодной темницей, пока в палаты не врывается огонь — рыжеволосый здоровяк Макмёрфи, разжигающий свет в потухших глазах обитателей.
Кизи передал, как система подтачивает индивидуальность и не даёт быть собой. Как институты власти проникают в ткань сознания, убеждая человека в необходимости жить под пристальным надзором, мякнуть под чужим покровительством. За выбранный ракурс Кизи называли революционером, стоящим у истоков социальных преобразований 1960-х наряду с Майей Энджелоу, Куртом Воннегутом, Джеком Керуаком и Бетти Фридан.


Читайте также: 50 лет «Челюстям» Стивена Спилберга
Роман Кизи впервые опубликовали в 1962-м, аккурат к процессу деинституализации — борьбе за закрытие психиатрических клиник и возвращение пациентов учреждений домой. Сперва о проблеме заговорили писатели, кинематографисты и деятели искусств. В 1948-м по роману Мэри Джейн Уорд выходит фильм «Змеиная яма» об ужасах психиатрии. В тот же год журналист Альберт Дойч публикует книгу-расследование «Позор Штатов», вскрывая травмирующие подробности условий жизни в психиатрических клиниках. В конце 1960-х фотограф Диана Арбус делает серию снимков Untitled and Unearthly, подсвечивая красоту субъектности невидимых остальному миру людей с врождёнными патологиями, живущих в специализированных учреждениях. А документалист Фредерик Вайсман выпускает неигровое кино «Безумцы Титиката» об издевательствах над заключёнными исправительной психушки Массачусетса.
Фильм Вайсмана, показывающий невинность изолированных людей и никем не регулируемую жестокость власти, не просто так запрещали к показу — он отразил несостоятельность либеральных реформ, направленных на сокращение пациентов психиатрических клиник и гуманизацию лечения ментальных расстройств. Однако институциональный контроль, стигматизация болезней и практики исключения «безумцев» никуда не делись, лишь обретали новые формы и последствия. Скажем, принудительная изоляция лиц с психическими расстройствами была законно ограничена лишь в 1978 году (не без влияния фильма Милоша Формана).


В любом случае роман Кизи шире отдельно взятой институциональной проблемы или исторического периода. Это прежде всего история о способности маленького человека надломить большую систему, о желании жить чувственно и честно, о невозможности внешней свободы и важности её внутреннего поиска. Кизи повторял эти мысли из книги в книгу разными словами и всю жизнь скромно избегал приписываемого ему статуса зачинщика перемен. Писатель объяснял тектонические процессы 1960-х не своим и не чужими произведениями, не чьей-то конкретной деятельностью, а назревшим где-то между искусством и жизнью, государством и обществом напряжением. Нечто сформировало волну преобразований, которую Кизи повезло поймать. «И эта волна всё ещё движется», — говорил он в 1992 году.
В 1970-е к остаткам нонконформистского течения, которое вскоре сменит консервативный поворот, присоединился Милош Форман. Чехословацкий режиссёр-новатор приглянулся Кирку Дугласу ещё в 1960-х. В руках голливудского актёра были и права на адаптацию романа Кизи, и уже отшлифованный на бродвейской сцене сценарий Дейла Вассермана. Однако на реализацию мечты актёра снять о Макмёрфи и сестре Рэтчед кино ушли годы. Ему не удавалось то отправить Форману копию книги, то договориться со сценаристом и голливудскими студиями. Впоследствии за исполнение желания взялся сын Кирка, Майкл Дуглас. Именно ему удалось усадить Формана, тогда остро нуждающегося в деньгах эмигранта, в кресло режиссёра.
Перенос подобной истории на экран действительно нуждался в постановщике, знающем об издержках тоталитарной политики не понаслышке. Родители Милоша Формана погибли в нацистских концентрационных лагерях. Он рос сиротой в автократическом государстве, снимая впоследствии кино о духовных поисках человека, детской невинности и взрослой греховности, противостоянии внутренней свободы внешним репрессиям. Эмигрировав после Пражской весны в США, Форман снял свою первую американскую драму «Отрыв», а затем приступил к работе над экранизацией романа Кизи. Режиссёр применил в постановке всё накопленное внутреннее знание и обиду, избрав чуждый первоисточнику ракурс.

Читайте также: 100 лет со дня рождения Питера Селлерса, главного комика Англии
Форману хотелось подсветить внешний процесс подавления личности, объяснить, почему и ради чего прежде свободный человек сознательно выбирает ситуацию несвободы. Чтобы добиться правдоподобия и реалистической оптики и избежать чрезмерного морализаторства, режиссёр избавился от антивоенного посыла оригинала, субъективной наррации и насыщенных метафор, попросив Лоренса Хаубена и Бо Голдмэна отредактировать сценарий Кизи, написанный для фильма. Писатель строго настаивал на сохранении закадрового голоса Вождя и стилистическом психоделизме. Форман и оператор Хаскелл Уэкслер, напротив, претендовали на честное и беспристрастное изложение событий с минимумом символизма — он здесь видится разве что в закольцовывающих композицию кадрах природы, что олицетворяют вольную жизнь.
Неподвижные планы в герметичных палатах, комнате отдыха и длинном коридоре с застывшим в воздухе и на плёнке кислым запахом медикаментов снимали в пустующем отделении психиатрической клиники штата Орегон, поэтому вдалеке кадра можно увидеть реальных пациентов. По легенде, актёры ночевали на больничных койках, много общались с хронически больными и постоянно импровизировали. Снимая фильм о несвободе, Форман позволял актёрам самостоятельно искать стержень своих персонажей, стремясь сохранить внутреннюю спонтанность сцен, балансирующую холодную поступь камеры.
Режиссёр лишь штрихами обозначает эволюционные вехи в развитии отдельных героев, почти не уделяет внимание их диагнозам и симптомам, не распределяет их по векторам добра и зла, нормы и патологии. Сразу не разберёшь, больны ли здесь все взаправду или безумие им навязано. И этот вопрос, вероятно, самый важный для режиссёра. Если Кизи создавал на страницах поток шизофренического сознания, Форман настаивает на отсутствии принципиальных ментальных различий, ищет визуальную рецептуру равенства.


В этом можно разглядеть отражение особого философского контекста 1970-х. Тогда Мишель Фуко опубликовал «Надзирать и наказывать» — огромное исследование институтов власти, техник дисциплинарного подчинения и исключения «неугодных». А Жиль Делёз и Феликс Гваттари выпустили монументальный труд «Анти-Эдип», в котором обвинили фрейдистский психоанализ в пособничестве неврастеническому капитализму, ведь сведение желаний субъекта к нездоровым и запретным фантазиям в итоге приводит к сублимации, выгодной для капиталистов, колонизирующих человеческие ресурсы. Несовпадение нутра и внешнего мира, фантазии и реальности в этом ракурсе оказывается навязываемым конструктом, разъединяющим людей и подавляющим их волю.
В «Пролетая над гнездом кукушки» Форман говорит примерно о том же. Он противостоит индивидуальному психологизму, захватывая красоту общности, прелесть разделённого друг с другом переживания, радость игры, важность не личных, а коллективных грёз о совместном побеге. С тяжестью на сердце режиссёр ведёт околокомедийную, залихватски смеющуюся историю к драматической развязке, нагнетая внутри кадра боль, разочарование и ощущение безвыходности. Но поверх этой черноты в конце концов расцветает сила человеческого непокорного духа. Пусть здешним героям не хватает смелости по-настоящему вырваться из оков системы, пусть они к ней слишком привязаны, в финале ленты каждый добровольно заключённый становится на шаг ближе если не к внешней, то хотя бы к внутренней свободе. Пытаясь взорвать машину порядка, хаотичный Макмёрфи трагически гибнет в её тисках. Но именно его подвиг быть собой в результате помогает хотя бы одному из постояльцев расправить плечи и сломать стены, преграждающие путь к истинной жизни.
Источники:
- Кен Кизи. Пролетая над гнездом кукушки
- New York Times. President seeks funds to reduce mental illness
- Интервью Кена Кизи 1992 года
- Разговор Кена Кизи и Терри Гросса 1989 года
- Ken Kesey, Checking In on His Famous Nest